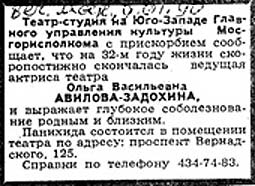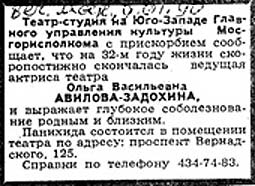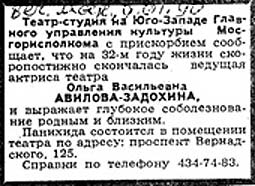
ГЛАВА 1. ВРЕМЯ УХОДИТ...
ЧАСТЬ 9.
ПОТОМУ ЧТО ПРОШЛО ВРЕМЯ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛО МНОГО МИСТИКИ И МНОГО ВЕРЫ В НЕЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАКОГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ НИКОГДА…
Память подводит, она выхватывает урывками, как фотографической вспышкой, сцены, лица и собственные ощущения.
Впервые музыка парадного выхода испугала. Клавдий вышел с таким лицом, будто ему только что сообщили невероятное — его царственный брат чудом остался жив и скоро будет во дворце. Все рушилось вокруг короля. Взбешенное, перекошенное лицо и нелепая попытка «дворцового этикета» — кривая улыбка.
Когда вдоль первого ряда шел Призрак, хотелось зажмуриться и убежать, настолько явственным он казался. А рядом, на полу, рычал и рыдал Гамлет, его тело ломало и скрючивало так, что в паузу, возникшую после исчезновения Тени, с испугом показалось, что он не сможет подняться. Но вот — медленно оторвался, поднял руку… Блеснули глаза, глубокие, потемневшие и почти безумные… Напряжение схлынуло… На какое-то время все стало знакомым, перед тобой просто играли.
Сюжет движется, и Клавдий с Гамлетом вынуждены оказаться лицом к лицу.
— А вот и Гамлет, близкий сердцу сын…
Взгляды не встретились, столкнулись, а отдача, подобно бумерангу, вернулась к владельцам. Клавдий стал вдруг дико беспомощным и взбешенным, а Гамлет застыл — спокойный и язвительный. Они стояли друг перед другом. Это был поединок — настоящий, не выдуманный. А древний текст Шекспира казался просто подспорьем в этой тайной, но ожесточенной схватке. Принцы и короли исчезли, остались две силы, противостоящие друг другу. Все остальное не замечалось и не запоминалось.
В начале второго действия Клавдий прорыдал свой монолог, но это была игра. Привычная иллюзия даже порадовала, но поединок еще не был окончен.
И опять — друг перед другом. Разговор о Полонии был странным. Гамлет поднял руку, и палец указал на Клавдия: «Он Вас дождется!» Воспринималось, как прямая угроза, и лицо Клавдия стало таким, будто перед ним разверзлась бездна.
Музыка поединка зазвенела как-то особенно громко и напряженно. Гамлет метался так отчаянно и размашисто, что даже задохнулся, лицо заблестело от капелек пота, и, в конце концов, споткнувшись, он со всего маха упал на пол, но музыка оборвалась вовремя. Наступила спасительная пауза.
Вдруг сцена смазалась, будто по стеклу потекла вода, и мелькнуло совсем иное видение — эта же сцена неделю назад
[1]. Какое-то время оно висело в воздухе, но услышались слова…
— … Ступай по назначенью…
Человек очень медленно, напряженно опустил клинок шпаги, другой стал нервно хохотать и забиваться в угол.
Наверное, все случилось быстро и четко… Секунда… Две… Три… Кончик клинка неподвижен. Из темного угла рванулась волна смертельного ужаса. Но тут же клинок двинулся, скользнул по боку своей жертвы и отступил. Клавдий, обессиленный, исчез за кулисами.
И больше ничего не было. Только позже, у дверей театра, на улице какая-то девчонка рыдала на плече своей подруги и бессвязно выкрикивала: «Черные цветы!.. Смерть... Не могу!.. Он… Страшно, как страшно!..»
Все вокруг казалось почему-то незнакомым. Улица, люди, Авилов, прошедший мимо, все было из другого мира. Даже сама себе я была чужая.
/…/ Потом, после 7-10.01.90
[2] был «Гамлет» 17.01.90. Попала я на него каким-то чудом. Приезжаю к театру и делаюсь свидетельницей скандала в очереди за входными. Некая Ирина (новая Витина поклонница, в своем роде весьма оригинальный экземпляр) вздумала учить нас с Леной Исаевой, какими должны быть фанаты. Вдоволь наругавшись, мы с Л.А. ушли стрелять билеты. Она стрельнула в последний момент, а я повисла на молодом человеке (очень противном, но искусство требует жертв), который передо мной отказал четырем девицам подряд. Не знаю, чем я его обворожила, но я оказалась на 1 ряду 1 место по входному рядом с его спутницей, живущей в этом же доме. Перед спектаклем я изображала невинность, которая 3-й раз в театре. Да, на спектакле из наших была только Лена. Л.А. сидела надо мной, на подушке 4 ряда. Начинается спектакль. Заставка. Клавдий, Лаэрт. И… Витя. На котором написано: «Не буду играть». Первая сцена. Я не узнаю Сашиного голоса
[3] и в ужасе смотрю на Сережу Писаревского, который сквозь рыдания рассказывает, что «Мертвецы на улицах невнятицу мололи» etc. Сцена во дворце. Я вспоминаю текст первого монолога Клавдия и холодею. И вот передо мной стоит В.Р., у которого, кажется, зубы стучат так, что слышно даже в 7 ряду. Монолог «Хотя о брате Гамлете» звучит так, как будто он орет:
«А-а-а…», — заткнув при этом уши. («Не слушайте то, что я говорю, ради бога, не слушайте!») «Теперь второе…» — говорит В.Р. и облегченно вздыхает. «А как наш Гамлет?..» — тут он тяжко вздыхает и поворачивается. — «Совсем не сын…» — равнодушно отвечает Витя. «Действительно, — думаю я. — Как Витя Авилов может быть сыном короля Клавдия?» Гамлета
по-прежнему не было до фразы «Сударыня, всецело повинуюсь», на которой он въехал в роль. Начинал ее Витя, а кончил принц Гамлет. Потом был монолог «О, женщины, вам имя — вероломство» — достойно и «в роли». Правда, начинался монолог со знаменитого жеста — рука на горле. Следующая сцена — Гамлет и Горацио. Очень душевно. Смысла диалога не помню, только его, кажется, там первый раз рвануло. «Да-да, все так, сейчас я успокоюсь…» — «И верно, не мешало бы». Далее. Отъезд Лаэрта. А.С. мечется по сцене и вопит нравоучения. Надя… Белая как мел, совершенно без краски. Самое интересное было в конце сцены, когда Надя бросилась А.С. в объятья, и изумленный Полоний мог наблюдать торжество братско-сестринской любви, выразившееся в обильных поцелуях. Вообще странное было зрелище. Ну и далее. Призрак. Эта сцена для меня одна из самых страшных в моей
юго-западной биографии. Зажигается свет. Они стоят у левой стены. Полутьма. Я не вижу Витиного лица, только слышу, как рвется его голос. «Началось…» Появляется Призрак. Витя повисает на Писаревском. Но… Шекспир неумолим. Он остается один на сцене. Дальше я помню бесконечный проход вдоль сцены — шатаясь, с непрерывным стоном
(«А-а-й…»). Дойдя до точки, он стал искать колонну, водя рукой над нашими головами, наконец, повис на ней и стал сползать. И тут я услышала… Наверно, он уже не понимал, что говорит вслух, это было сквозь зубы, в промежутках между стонами и очень невнятно, но я сидела рядом и все прекрасно слышала: «Нет… Нет… Я не могу… Нет… Нет…» Потом он поднимается на несколько ступеней и скрывается из поля моего зрения. По звуку мне показалось, что он чуть не вписался в зрителей. Я не видела, как он хватался за стену, не слышала «Черт».
[4] После этого Витя спускается, точнее, обваливается вниз и приземляется на пол чуть ли не в шаге от меня. Призрак то приближается, то отходит от него, а Витя пытается то лечь, то оторваться от пола. Движение (подъем на руках) напоминает отжимание, голова то вскидывается, то повисает. Лицо залито слезами, глаза мутные и явно ничего не видят. Его обычного отстраняющего жеста почти нет, он не может оторвать руку от пола. Взгляд вверх. Текста уже нет, все тот же стон, но губы у него шевелятся — молитва? В этот момент я уже ничего не соображала, для меня не существовало зрителей, только он, я и Третий. И я тоже подняла голову и произнесла речь (вслух!). Это была
какая-то адская смесь молитв и проклятий, сквозь рыдания, давя в себе ужас, отчаяние и желание прервать к черту этот шедевр драматического искусства (второй раз после 8.11.89
[5] у меня была такая возможность — сидела удачно). («А мы надеялись, что пронесет. Как же! Жди! Господи, пощади! Господи, что же ты делаешь, дрянь такая!») Я забыла, что
20 мин. назад разыгрывала невинность перед своей соседкой, а теперь говорю, почти кричу — и
такое… Кончилась сцена жутко — фонограмма делается громче, на Призраке вспыхивает свет, и Витя с диким криком (как в финале «Калигулы») падает, вернее, с размаху обрушивается на пол. И все. Его отпускает. Включается свет. Витя лежит на полу спиной к нам, потом медленно, в несколько приемов поднимается. Наконец, он взбирается на точку (а я в это время думала, что он ни за что не встанет) и начинает монолог. В голосе слезы, но это, кажется, просто отходняк. Появляются Горацио с компанией, а Витя уходит со сцены. «Преступленье налицо» звучит уже
откуда-то из-под зрительного зала. Но тут он опомнился и вернулся. «Прервалась дней связующая нить» — очень достойно, только он не убежал сразу, а медленно опустил голову в гаснущем свете. Далее. Гамлет и Полоний. Витя старательно играет ернический вариант этой сцены. Зал, правда, не смеется — чего уж веселиться, когда герой шутит таким слабым голосом, что его едва слышно? Гамлет, Розенкранц и Гильденстерн. Саша держится прекрасно. Витя изображает
«штрих-пунктир» — намек на роль и не забывает при этом облизывать Сашу — улыбаться, брать его за руку. Саша тоже платит ему взаимностью. «Какое чудо природы человек» — было великолепно. Витя живой спиралью закрутился вокруг колонны. Сцена с актерами. Все на уровне, даже Гриня. Каждый из актеров, проходя мимо Вити, старается выразить ему свое почтение. Прямо соревнование в любви к принцу. Гриня прекрасно, совершенно серьезно прочел про Гекубу. «Какой же я холоп и негодяй» не помню (как теперь говорят, «на спектакле раздавался храп фаната: на сцене шло драматическое искусство»). Потом было объяснение с Офелией, где бедной Наде пришлось играть «за себя и за того парня», который в это время лежал на стене и еле слышным голосом выдавливал из себя реплики, то и дело срываясь, начиная, бросая и вновь начиная одну и ту же фразу. («В монастырь… Ой… К чему плодить грешников?» и т.д.) Мышеловка внешне выглядела нормально. Я смотрела на Витю снизу и оценила, что взгляд у него совершенно невидящий. Правда, после ухода двора он рухнул на Писаревского, пытаясь сдержать начинающуюся истерику. Сережа потащил его в угол, но на полдороге музыка кончилась. «Еще музыку!» — не дрогнув, заявил Писаревский (так родился еще один юго-западный афоризм). Монолог о флейте прозвучал очень резко, колюче (по принципу «человеческого сердца» в «Калигуле»). Засим
1 действие завершилось. 2 началось довольно ровно. Правда, В.Р. так прочитал монолог, вернее, так его кончил, что мне стало худо. От ярости и иронии 23.11.89
[6] к безнадежному вздоху 17.01.90 («Все поправимо?..»). Сцена
Гамлет—королева шла ровно и совершенно безжизненно. Между Витей и ролью чувствовалась ощутимая стенка, которую он не собирался преодолевать. Равнодушно, пунктиром намечая интонацию. В таком тоне прошли почти все сцены 2 действия. Не глядя в зал, воспринимая его только как единое целое — нечто огромное, черное, живое и дышащее, пришедшее закусывать человечинкой. Но, во всяком случае, эта сдержанность по отношению к роли принесла свои плоды — срывов во 2 действии было гораздо меньше. И вот случился очередной казус с фонограммой. У Гамлета и Гертруды кончились реплики, Призрак стоит на старте в проходе, а фонограммы нет. Витя с размаху падает на пол и произносит весь свой текст. Фонограммы нет. Тогда он продолжает по Шекспиру (текст, которого нет в спектакле. Пригодилась эрудиция). Фонограммы нет. Наконец, он поинтересовался: «А какова цель вашего прихода?» — «Цель моего прихода…» — Призрак ответил очень вовремя и впопад.
[7] Отправление Гамлета в Англию и монолог о Фортинбрасе прошли в том же ключе, что и сцена с королевой — ровно и безжизненно. Сумасшествие Офелии произвело на меня неизгладимое впечатление, и не из-за А.С., а
из-за Нади. Количество членов общества «Воинствующий безбожник» неуклонно растет. Надя, с которой уже довольно давно пооблетели все ее колючки, начала «Господи, помилуй» тоном «Я тебя очень прошу», следующий повтор — «Ну, Господи, ну помилуй!», и в третий раз фраза прозвучала как проклятие.
Лаэрт—Клавдий. «Мне легче на душе от предвкушенья того, что я швырну ему в лицо», — мечтательно произносит А.С. «Ему в лицо…» — задумчиво повторяет В.Р., представляя себе, наверное, дружеские объятия Вити и А.С., — ничего другого из этой фразы не вытекало. Последовавшего за тем срыва В.Р. я не видела, потому что смотрела на А.С., отметила только растерянную, а не обычную угрожающую интонацию: «Государь…» Наконец, появилась Лариса с новостью про бедняжку Офелию и буквально почти унесла В.Р. со сцены. На кладбище Витя был очень тихий, реплики выдавал все тем же ровным тоном. Ванинского монолога на кладбище я почти не услышала, я просто сжималась от каждой фразы — слишком уж нетеатральный смысл был у этой сцены. Текст А.С. кончается. Тишина. Осветитель зажигает свет над Витей, который, свернувшись, лежит на полу. Но на свет реагирует, начинает карабкаться вверх, наконец, повисает между колонной и стеной. Одновременно он выдавливает из себя
какие-то нечленораздельные реплики. Ванин идет к нему, а Витя улыбается и вдруг начинает тянуться к нему — так обычно тянутся к свету. А.С. останавливается, опускает голову и неуловимым движением вписывает Витю в стену. Тот закричал, попытался выскользнуть из рук А.С., убедился, что не выйдет, мотнул несколько раз головой и, наконец, с хрипом выдавил из себя положенные реплики. Тут А.С. его отпускает. Витя сгибается пополам и весь дальнейший текст хрипит в том же положении. Выход на точку к «быть или не быть» завершился как раз к концу текста Озрика. «А если я отвечу нет…» — очень тихо и уже не равнодушно, а… покорно, что ли. Какое теперь «нет»! «Быть или не быть» началось, прямо скажем, со страстью, но на фразе «Какие сны» — плавно перетекло к той же безнадежной покорности. Монолог прозвучал
как-то соскальзывающе. Стало ясно, что в отношении собственной участи у принца давно нет ни протеста, ни сомнения, ни вопроса. И вдруг: «Как тяжело у меня на душе!» — такая живая боль была в этой фразе. Гамлет вдруг вспомнил, что он еще на этом свете. Вспышка была недолгой. «Раз никто не знает своего смертного часа» и «Прошу прощенья, сэр» — было все в том же ключе. Казалось, он вообще не видит, что вокруг него люди, и голос его доходит до нас из
какой-то немыслимой дали, как свет звезд. «В глубине души…» — четко, как окрик, прозвучала фраза Лаэрта («Витя, вернись!»). И Гамлет, который секунду назад «был весь готов к далекому пути», вдруг улыбнулся и взглянул на Лаэрта вполне осмысленно и благодарно. («Надо же… Для
кого-то я еще не умер».) Дуэль смотрелась
довольно-таки забавно. Гамлет машет над головой рапирой, не попадая в такт фонограммы, Лаэрт крушит колонны, изображая шум Куликовской битвы. В нужный момент все отскакивают и кричат «Ура Гамлету…» От удара Лаэрта Витя выронил рапиру и упал рядом с нами. Потом поднялся. Обмен рапирами я наблюдала вплотную. Клинки скрестились, и вдруг у Вити падает рука. А.С. тоже опускает рапиру, и они застывают друг против друга. Пауза. Я не вижу Витиного взгляда, но, видимо, он был хорош. Наконец, Витя поднял руку и три раза пытался попасть рукояткой рапиры в ладонь А.С. С третьего раза он понял, что не попадет, и махнул рукой — «лови сам», после чего слегка толкнул А.С., отчего тот вписался в стену (отлился ему Витин взгляд). После чего Витя его заколол, Ванин выдавил из себя текст
еле-еле, но очень резко преградил дорогу В.Р. Ничего необычного в сцене убийства короля я,
ей-богу, не помню. Финала всей этой истории я тоже почти не помню. Не слышала, как А.С. порвал рубашку, ни его последних слов, ни «прости тебя господь» — ничего. Последний монолог Гамлета, напротив, помню очень хорошо, т.к. к драматическому искусству он уже не имел никакого отношения — смазанно, без всякого смысла, кроме одного — как бы дотянуть. Ну вот и все. На 3 поклоне Витя даже увидел зал и улыбнулся: «Выдержал…» Но радости от этого лично у меня не было, и даже не потому, что 8 срывов за один спектакль
(5 в 1 действии и 3 во 2), а из-за настроения — обреченной покорности и закрытости от людей — не только от зала, но и в большинстве случаев от партнеров.
Здравствуй, Наташа!
Обещала позвонить, но сначала решила написать.
«Оформителя»
[8] я записала. Слушай, это не копия, а кошмар! Обрывов в крупных размерах — штук шесть, не считая мелких. А цвет?! У меня по
черно-белому шестую часть (игра в карты) видно практически не было. Хотелось выть: «Алло! Дайте Витю!» При всех издержках нашего Видешника — копия «Оформителя» у нас великолепная. Я уж не говорю про звук! Ужас!!! Знаешь, я бы не возмущалась, если б не знала, какой фильм в натуре. Отсняла полторы пленки — что получилось — не знаю. Не проявляла.
Да еще почти на час картину задержали! Они что, издеваются?! По-моему, на телевидении перестали уважать зрителей. Фильмы — одна рванина! С субтитрами — лучше не смотреть. Тихий ужас…
Наташ, ты разговор Грильо и слуги записывала? У меня лента изволила кончиться на фразе: «Платон Андреевич!» Помнишь, такой игривый тон… У меня аккурат на нее ленты не хватило… Да еще пришлось записывать на чужую кассету. Сижу и думаю, что у себя стереть, чтоб перегнать запись на другую, а эту отдать. Знаешь, у меня есть одна бредовая идея: взять с собой магнитофон (на моем я могу крутить головку как угодно) и, если твой «Гамлет» еще цел, переписать его заново, сильно подсократив, а в освободившиеся дыры вписать фильм. Словом, работы часа на три…
Только что звонила Юля. Она сообщила о случившемся. В голове звон, и правая рука словно онемела… Не знаю, наверно, я слишком нервная натура и надо бы быть поспокойнее, но «не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю».
[9] (Надо бы «ее»…) Не укладывается в голове… Наташа, если тебе не трудно, или
кто-нибудь из девочек, поищите, если не трудно,
ослабитель.
[10] Хочется оживить ту пленку с «Уроками дочкам»,
[11] все-таки там есть Ольга… Я пыталась напечатать
что-то еще в ноябре, и один даже ничего получился — там она и Виктор. Это, когда приходит Семен первый раз, они сидят, обнявшись, на сундуке. У Ларисы неплохие фотографии…
Не могу представить, как Виктор теперь будет играть «Калигулу», да еще на следующий день…
Надо будет в феврале напечатать эту пленку.
Что-то мысли скачут в разные стороны, никак вместе не соберу. Извини, пожалуйста… /…/
Если у меня все будет хорошо, то в феврале свободна две субботы — 3 и 10-го. Вот. Потом 24-го.
Ориентируюсь пока на эти числа.
Пока все. Кончаю.
Да! Если тебе они тоже подходят — напиши. А окончательно детали утрясем по телефону. /…/
Итак, в Москву я выехала 16-го. Увы, четырехчасовым поездом — провозилась со сборами, к тому ж у меня ночевала Людка — проводы на «Гамлета». (Я даже сказала ей: «Что ты меня раньше времени хоронишь?») /…/ Настроение было бодрое, а у Людки наоборот — упадническое, она провожала меня до вагона. Приехала в Москву, сразу — к девчонкам. Они выложили мне все последние новости.
Ленка позвонила им на следующий день [11.01, на следующий день после похорон. — Прим. ред.], ругала, что ушли. Была панихида — говорили самые стойкие — Черняк, еще кто-то, не помню. После все влезли в два «Икаруса» и уехали на кладбище. Все прощались (что окончательно примирило меня с нашим уходом — я, может, и выдержала бы, но девчонки… а потом, я хочу помнить ее живой). Потом уехали в театр, пили водку. Ленка попросила Лариску снять фотографию Романыча — та сняла, Ленка порвала ее и клочья бросила на пол. Вошел Гриня, поднял, остолбенел, за ним — Черняк. Был ужасный скандал. На чужих, конечно, никто не подумал, решили, что кто-то из театра. Ленка на поминках (уже в доме) сказала, что это она, но ее не выдали. Романыч приехал 11-го. Главным до него оставался Ванин, он и отменил спектакли своей властью. Часть перенесли.
/…/ Лариса снимала в театре и на кладбище, они с Ленкой печатали, чуть не падая в обморок — конечно, обещали дать и Наташе, чему та «очень рада». Все потихоньку приходили в себя, мимо театра не ходили — в окне свеча.
А 15-го Ленка позвонила вновь — 16-го играют «Вальпургиеву ночь». С Бочей.
[12] Требовала, чтобы наши пошли — но они отказались.
/…/ Я, взяв учебник, поехала дежурить. Вышла из метро — с трудом подняла глаза, потом шла по дороге, которая была самым любимым местом на земле, а теперь… Дошла до театра — нахлынуло все — церковь, вход, где голубела крышка, утоптанный снег. Стоять у входа не смогла, до прихода первого человека дежурила напротив. Потом стали люди собираться. /…/ Подошла Ленка — выглядит лучше, но — в печали, обрадовалась, что я здесь. Потом стали собираться все. /…/
В общем, не попала я на спектакль. По своей дурости. Был жуткий лом. Девчонки (Наташа с Ладкой и Ира) стрельнули билеты, а я понадеялась на входной. Вспоминать не хочется. Еще какие-то оставались, всё клянчили, и я с ними. Борисова довели, Докина тоже. Никто и ничто нам не помогло. После перерыва ушли четыре человека, билеты были у нас — но бесполезно, не пустили. Миша совсем повесил нос, поняв, кто мы с Юлькой, но — не пустил. Я уже даже не мерзла совсем. Ждали до конца со Стасей и Юлей. /…/ Слушали. Но как это тяжело! /…/ Кошмарный вечер. Что было слышно? «Прощай, Лаэрт!» «На что ты в честь нее способен», реплики Клавдия, его хохот и т.п. Паузы — жуткие, непонятные, сердце обрывалось. Вот так оно все. Стася слушала одна «Все поправимо», после чего шла мимо в полном трансе, потом — к нам, и села у ступенек. Когда спектакль кончился, мы влетели к 3-ему поклону — жуткое зрелище, нас никто не остановил. Мамонтов все косил на меня — вид был, наверное, «странный». Витю в этот вечер видела дважды — когда шел в театр. Отмахивал правой рукой, еле взглянул на людей, не здороваясь, не злой он был, а — горе у человека. И после поклона — уходящим.
Девчонки вылетели, пока шли, я трясла Ирку, но путного не вытрясла — ничего не отстоялось. Сказали только все, что потрясающий был спектакль, великолепный. Но Ирка успела рассказать про «Вальпургиеву», она была накануне. Боча играла плохо, копировала Олю, безуспешно, конечно. Но остальные тянули, поддерживая друг друга. Сережа с Куликовым, правда, классно подрались. Прекрасно играла Галя Галкина (про нее, правда, говорили, что чуть не упала в обморок на сцене, за кулисами она плакала, но сцены свои вела безупречно, ни одной фальшивой ноты, а ее приход — «Спокойной ночи, малыши» стал полным тайны). Раздражало Ирку то, что вторая дверь весь спектакль была полуоткрыта, и там кто-то стоял, то Черняк, то Сережа — следили за спектаклем. Ленка смотрела из прохода — боясь помешать зрителям. Много было пустых мест.
Приехали домой. Лада рассказывала, Наташа поддерживала. Через какое-то время я отключилась, закрывались глаза. Дослушали. Это был страшный рассказ. Я спишу потом у Натальи, что она отфиксирует…
/…/ После такого рассказа нам с Олей
[13] стало совсем плохо, мы срочно ушли, валясь с ног…
/…/ 18-го «утром» поняла, что знаю 6 вопросов
из 60-и. И несмотря на настроение — «лучше б не просыпаться совсем» — весь день усилием воли заставляла себя читать. Оля уехала в общагу, а у девчонок был жуткий отходняк — пугали они меня, если честно. Странные были. /…/ Звонила Людка. Меня не спросила, говорила с Наташкой. Мрачно. Наталья тоже. Потом приехал Кирилл. Жутко удивился, увидев меня, выдержал театральную паузу. Сообщил расписание на февраль, которое изменило мои планы… /…/ С 8 — перенос полностью.
[14] Т.ч. 8-го — «Мольер», и я должна быть в Москве. /…/ Выучив вопросов 20, уехала на вокзал. Там училось почему-то лучше. /…/
«Наступление конца света
возможно в одном, отдельно
взятом театре». (24.01.90)
После всего ужаса, после «Гамлета» 17.01. — в тот же день [Нет. 18.01.90 (Прим. авт. от 17.02.90.)] собрание в театре, где В.Р. объявил, что после гастролей снимет «Калигулу», «Ночь» и еще что-то, выгонит половину народу: Черняка, Трыкова, Мамонтова, Коппалова и еще кого-то — на договора, вместо Нади в «Гамлете» будет Шмелева и… Не помню. Голова болит. Л.А. второй день ползает — страшная головная боль. До сих пор мысль о Вите заставляла забыть о себе. Я дошла до того, что почти слышала ночной звонок и голос, который говорит мне, что в театре несчастье… И все, что будет дальше. Наивная, я думала, что это будет резко и сразу. Я забыла, что концу всегда предшествует агония. Я была уверена, что смогу при ней присутствовать. А вот теперь я кричу: «Не-е-т!» Мы гибнем? В голове только одна мысль: «Это конец, да?» Сколько судеб связано, сцеплено в один комок. Мы все зависим от них. Но я убеждаю себя, что ничего не случится до тех пор, пока живы трое: Витя, А.С., В.Р. Только бы он выдержал. Господи, будь ты проклят! В отчаянии я сегодня подумала: «Пусть все кончится скорее». Но спохватилась вовремя. Не надо!
/…/ Оставшийся день — сборы. Сразу увидела Людку. Пришлось рассказывать. Всего не говорила — сослалась, что не видела сама. /…/ На фоне всего — маленькая радость. Открываю «Комсомольское знамя» —
за 5-е января (а еще все решала — ехать получать или нет!). А там — во всю страницу — интервью с Витей!
[15] Вижу сначала снимок, потом — заголовок и немею. Читаю чуть не с воплями и скачу по комнате — великолепное интервью, умное, вопросы хорошие и ответы
по-честному. Конечно, беру с собой.
/…/ Приехала — добралась до девчонок. /…/ Новости. После «Гамлета» ВРБ устроил собрание, на котором постановил кучу идиотских вещей — выгнать (или перевести на договора) Мамонтова, Колобова, Черняка, Трыкова, убрать из «Гамлета» Бадакову (заменив Шмелевой!). Из новичков твердо оставить Борисова, а Иванова ввести на роль Муаррона. Снять «Калигулу» и «Вальпургиеву» и т.п. Бред. Форма отходняка. Идиотизм какой-то.
/…/ Еще днем читали интервью. Все в восторге, но… «Подписался». При внимательном прочтении все это невесело, особенно «Я ему противоречить не стану». Бр-р. И снимок. Девчонки тут же сделали копии текста для себя и весь день вглядывались в снимок.
В 8 позвонила Оля.
[16] Минут 20 разговаривали, непонятно о чем. /…/ Она меня испугала рассказом о том, что с ней было
17-го. Около шести — чувствует, что
кто-то рядом, смотрит на плакат,
[17] а его словно рука замазывает черной краской, проступает лицо и голос, голос зовет на помощь — «Не могу, не могу». Это прошло без 15 семь. День «Гамлета»! /…/ Чувствует. Я аж зажала рот рукой, чтобы себя не выдать.
/…/ Мы опять проговорили с Наташей до утра. /…/
Я призналась ей, что 21-го стала фанаткой. Она обрадовалась, я увидела это. Потом говорили о том, что происходит. Что лучшего ожидать не приходится. Что у нее тоже чувство — размен.
[18] И боюсь, Виктор так же воспринял, а почему бы и нет, если нам пришло в голову независимо друг от друга. И что он сдался. Что в начале осени еще пытался выбраться, потом — терпел, а к январю опять попытался — но тут… Он долго в себя не придет. Это так просто не проходит.
Полгода-год, не меньше. И надежды мало, очень мало. У Натальи еще одна мысль была — прогон.
[19] Жуть какая, боже мой! И мистика сплошняком, например, о чувстве, как в «Мольере»
11-го, что он
что-то материальное видит и отодвигает взглядом, удерживает. Виктор перестал бороться — это видно и из интервью, так непохожего на прошлые. Он принимает все. А это и есть — конец. Говорили, что будем до конца. Опять — о фанатах. Что у каждого свой путь. Отдаляется Юлька, уезжает Гоша
и т.д. (Может, поэтому для нее приятная неожиданность то, что я — остаюсь.) А я ей все объяснила — мы говорили о Высоцком. /…/ О наших задачах — быть рядом, помочь выбраться другим и сохранить себя и — искать. Искать того, кто идет на смену.
[20] Это тоже — по мотивам интервью — там слишком много о «Мольере» и о 1980. Даже сказано прямо — «умер Высоцкий». Совпадения? М.Е. — талантлив, но — тут другое.
[21] «Чаша». Значит, где-то — «моя последняя женщина»,
[22] как говорит Наташа. Она, правда, не думает, что сможет второй раз, снова. Говорит про меня, что в первый раз видит человека, который идет по второму кругу.
Если честно, это так. Оттого я и сопротивлялась так В.А., его влиянию — не хотела, чтобы вновь, оттого и хотелось уйти. Но поздно. Теперь — поздно.
«Привет с Юго-Запада» — шутили. А если б В.А. — с Таганки? Не поверил бы. Да и нельзя о таком. Но страшно — смотреть на парнишку-ровесника и знать все, что будет.
Наташа знала девчонку — фаната Таганки, в 85-ом — слушать не могла. Я подтвердила. Т.ч. — только держись.
Господи — только б не так, не так!
Еще бы лет 5-6 хотя бы — ведь там — может быть прорыв — к мудрости, к иному свету. Перетерпел бы, выдержал!
Но как мало надежды.
Говорили о фанатах, о феврале — готовиться надо. /…/ Нужно лекарство — на всякий случай. Вплоть до мепробомата. Нужно держаться.
Наташа говорила о том, что Виктор берет — на грани
[23]. Пока в форме — нет, и уйдя — тоже, но на грани — берет. Раскрытые ладони должны быть. (У меня это было случайно —
9 октября.[*]) Интересно — а я могу? Как это понять? Но учесть надо, это — единственное, чем можно помочь.
И не закрываться! /…/
/…/ 18.01. было знаменитое собрание, а 21.01.90 мы были на «Дураках». Бр-р-р. На Колобова просто больно смотреть, такое у него жуткое лицо. Тамара впервые на моей памяти рыдает настоящими слезами, Сивилькаева, кажется, не знает, куда деваться.
[25] Лариса белая как стенка, говорит едва слышным голосом и не попадает в ритм, так что Гриня посреди спектакля говорит ей: «Элен, ты не умирай, пожалуйста!» — на что Лариса рявкает: «Все нормально», — после чего голос у нее прорезается. А.С. и Сережа на этом фоне выглядели просто героями. Ярче всего мне запомнился финал этого мероприятия: А.С. стоит напротив меня у колонны. Включается фонограмма, и он начинает хохотать. В голове автоматически всплывает: «Он плачет? — Нет, он смеется».
[26] Вернее, наоборот. А.С. поднимает голову, придает своему лицу подобающее выражение и произносит: «Давай!» В этой фразе было все — от отчаяния до ярости. И готовность драться.
Все-таки не безнадежно, хотя зрители перед спектаклем обсуждают, кого выгнали, а кого еще нет, а дежурные давятся от истерического хохота.
/…/ Был лом, но Лада стрельнула билеты, т.ч. прошли и сидели нормально. (А были даже стулья на боковушке.) Все зрители обсуждают последние «новости». Наших — только мы. Настя с такой улыбкой! У них — форма истерики — хохот. Хотят гадости устраивать, сочиняют анекдоты похабные («по существу»), просят ходить с цветами («И никаких Авиловых!»
[27]), прощались тоже душевно. Все это — реальность.
Ну и сволочь же ВРБ.
Спектакль был! Со слезами на глазах. Я в первый раз в театре после всего. Больно ужасно. Сивилькаева играет, а я — Олю вижу. Впервые по-человечески смотрела на Ванина (он сразу оценил — так глядели друг на друга). Он хоть честный и вообще. Хреново ему было, как и всем. Кудряшова на грани слез. Играла прекрасно, глубоко! Выдала мне монолог о птицах — я ее вижу сквозь слезы, и она — тоже — на рыдании. Потом они ссорились с Леоном — такая боль. И ее крики, когда вращают клетку! С ума сойти. Откуда что взялось! Комедию ломал один Гриня. Уромова еле на ногах держалась (как Гриня сказал — «ты уж не умирай!»). Драматизма было хоть отбавляй!
И еще музыка — а мы в Новый год…
[28] В общем, я ревела, пытаясь улыбаться — чтоб не смущать актеров — центр 5-го ряда все ж. В финале Ванин сорвался — крик — «Давай!» И я поймала себя, что тоже шепчу в такт — «Давай!» — с тем же отчаянием и болью.
Вывалились в таком состоянии! Пока не ходишь в театр — все не кажется таким реальным. А тут!..
Вечером позвонила Стася.
Трудовые ВРБ обещал отдать после гастролей. Собрание было 18-го! В.А. уехал в Ленинград и ничего не знает! Вот ему еще новость. Точно гонят — Лешу, Трыкова, Колобова. Надю — вроде только из «Гамлета». Но верх всего — слова Романыча. Он сказал Волкову учить роль Гамлета — «На всякий случай!» (!!)
У ВРБ, конечно, истерика. Но если Витя узнает… /…/
Я на пределе. Когда слышу по телефону голос Лены, едва не падаю в обморок: «Что еще случилось?» Трясет, валокордин не помогает. Как все это выдержать? На том собрании В.Р. сказал, что не то заменяет, не то просто, «на всякий случай» поручает учить текст Гамлета Волкову. Вите позвонили в Питер, он рвет и мечет, но приехать не может. В театре все помирают со смеху, потому что никто ничего не понимает. Кстати, Витя с В.Р. перед спектаклем 17.01. выясняли отношения чуть ли не до драки. Л.А. предложила простое и ясное объяснение: просто В.Р. решил, что Вите не подняться. Вместе с ним, очевидно, погибнет и театр, так что В.Р. решил начать с начала — без них. И без Вити, естественно. Получается, что он будет отброшен к 1983 г. — «Мольер», «Дракон». Я думаю, Витя это тоже поймет. Интересно, что они делили 17.01.? Перенесенные спектакли? Новость о «Гамлете» вполне объяснима после 17.01. — настроение у Вити было такое, что можно было подумать, что это конец — он был такой… покорный, что ли… Я его никогда таким не видела. И сегодня — кинокадры похорон Высоцкого — «учебный фильм». И вокруг все всерьез говорят о том, как это будет. Даже Лена. Я, кажется, не выдерживаю. То и дело срываюсь, не помогают даже окрики. Но пытаюсь жить даже с этим, хотя, просыпаясь утром, всякий раз думаю: а может это «большой страшный глюк»? Все на него одно за другим. Неужели не отпустит?
/…/ Я приехала на спектакль, хлебнув рюмку клюковки. За сценой встретила Лешу Мамонтова, в дупель пьяного (он светил). В темноте включается фонограмма «Итальянца»,
[30] и я плавно переживаю все оттенки ощущений — от сдавленного рыдания (я хороню свой театр) до «Мы еще живы»,
[31] вернее, «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». В этой музыке мне послышалось что-то странное,
какое-то горькое мужество, сопротивление судьбе, что ли. Я стала вспоминать перевод текста. Вот в этом настроении и шел спектакль. Вернее, вначале он просто поддерживался на обычном уровне. Правда, на Бочу в Олином костюме смотреть было невозможно, да и играла она отвратительно, а Саша просто размазал меня своими рыданиями на монологе о любви к Мирандолине; я едва не подняла руку,
[32] но потом спохватилась, что Саше это не поможет. А.С. красиво отсутствовал при полном присутствии до фразы: «Леопольд, ты мне будешь нужен…» — Пауза. — «До 12 числа…»
[33] Несколько секунд я перевариваю экспромт, а потом начинаю падать вперед
из-под пушки и
что-то кричать, так что даже О.К. с третьего ряда услышала. Тут «Трактир» кончился. А.С. вошел в роль карбонария и вождя оппозиции, остальные стали подыгрывать.
— Ах, вы актрисы? Мне по душе ваше искусство… до 12 числа. (А.С.)
— Баронесса, вы любите ночь? (Сережа).
— Я люблю утро (Лариса; не понимает).
— А я люблю — «Ночь»!!! («Вальпургиеву», — громко продолжает О.К.).
— Как тяжело, — тихонько вздыхает Надя.
— Ничего, после 12 легче будет, — громко отвечает Гриня. Но смотреть на свежеиспеченного заговорщика было тяжело. Просто человека разрывает отчаяние, и он пытается выложиться, сметая все на своем пути. От каждой его фразы про 12 число меня просто резало и раскалывалась голова. Но яснее всего А.С. высказался в финале. Пройдя всю сцену с каменным лицом, он методично оборвал красиво развешанный серпантин («Концерт окончен») и направился к выходу. Почти ушел в проход, потом рванулся назад, с досадой махнул рукой и исчез. Он появился перед выстроившейся в ряд компанией со стопкой подушек, на которые сажают зрителей, и по дороге ронял их перед каждым актером (как в «Деле»
[34]). После чего и удалился. На поклоне на нем висела О.К., после чего он смотрел ей вслед, распрямившись и с улыбкой удовлетворения: «Поняли…»
/…/ 26.01.90 21.00 черт нас с Л.А. дернул сходить на «Собак». Это было очень унылое зрелище. Ребятишки выглядели совершенно размазанными,
[35] особенно Поляна. Таня Татаринова вовсю язвила, а Галя была похожа не на Таксу, а просто на королеву Гертруду. Миша выглядел постаревшим лет на 5. Когда он ответил на вопрос Поляны: «За что?» — «Никого там нет», — просто выдохнул, а не ответил; мне показалось, что он отвечает Вите. Хромого они хоронили так, что мне захотелось просто выйти из зала. Студия производила впечатление сборища кандидатов в покойники — все тихо
куда-то отлетали. Одним словом, «лопатки чешутся — крылья растут».
Оля, здравствуй!
Наверное, раньше встретимся, чем дойдет до тебя письмо. Да и о чем писать, не знаю, о грустном как-то не хочется.
Сижу в Апатитах, набираюсь сил и спокойствия. Дома это быстро удается, где-то за день, за два пришла в себя. Но скоро обратно. Когда ходишь в театр так часто, они все становятся родными, и переживаешь, как за близких людей. Ты в курсе еще и последних событий? Романыч спятил, что ли? Форма отходняка? Или давно планировал, черт его знает. На досуге я подумала — чувствует, что что-то не так, и пытается резкой переменой встряхнуть всех и самому встряхнуться. Но нечестный путь какой-то. Они столько лет работали вместе с ним — Трыков, Черняк, Мамонтов — люди же незаменимые, свои. «Трудовые отдаст после гастролей». Сволочь. А идейка заменить Бадакову в «Гамлете» Шмелевой? Бред, большой и страшный глюк. В театре все на взводе, анекдоты сочиняют. В этом и польза есть — о другом стали думать, о живых. Но вот то, что Витя ничего не знает — уехал в Ленинград до собрания — мы и не знали. Ему еще новость.
Не поймешь, что — сплетни, а что — правда. Вроде как ВРБ собрался оставить 10 спектаклей в репертуаре, причем отменить «Калигулу» (зачем тогда ставил полгода назад). Чему верить, не знаешь, да и в театре, наверное, не знают, но слухи ползут, на спектаклях лом, и зрители только это и обсуждают. Вот для «критиков» повод позлорадствовать!
Такое чувство, что все, что было в театре до 7 января — прошлая жизнь. Тоже были проблемы и всякое разное, но теперь. Кризис. Четко и ясно сознается — в театре кризис, не просто горе, это бы как-то пережилось, а так что будет — неизвестно. Будем надеяться. Не вовремя мы пришли туда, надо было пораньше.
Вите плохо. Очень. На спектакле я его не видела, не попала 17-го, но так — видела. Если уж нам всем худо было, то ему. Мы так подумали — похоже, что это первая в его жизни встреча со смертью (родители живы, даже бабушка, и в театре такого никогда не было), ему долго в себя приходить. Внешне он хорошо держался, это на Сашу смотреть было страшно, а Виктор еще организовывал все, мать утешал и вообще. Но это ж ничего не значит, он просто посильней, лучше собой владеет.
Я так давно тебе не писала, а ведь много воды утекло. Я даже не писала тебе, что стала фанатом (ровно год спустя после того, как стала зрителем). Да-да. Смешно вышло.
20-21 (декабря) — «Калигула».
[*] О котором я, кстати, тоже не писала, да и нечего особо писать. Тяжелые были спектакли, в
общем-то, беспросветные, калигульские. Очень близко к Камю. А главное — все изменения в сторону все большего осознания людской подлости, лжи, мерзости и отсутствия надежды. Раньше — вот дали бы ему Луну и… А теперь: «Если бы я получил луну… то все изменилось бы, да?» В общем, ни черта бы не изменилось. Не летается
как-то после таких спектаклей, знаешь ли. Идешь смотреть, как на каторгу. И вспоминать особо не хочется.
Как-нибудь при встрече расскажу подробнее. Было там только два интересных эпизода, но не касающихся роли.
1 — выходка Иванова. Этот гад возомнил себя великим актером, что ли?
20-е, 21:00. Дело доходит до последнего монолога Сципиона. Вдруг он начинает весь текст выдавать с вызовом («Я не прошу пощады у судьбы…»), а на словах: «Есть согласье…»
идет вдоль авансцены и
становится прямо перед Виктором, спиной к залу, полностью перекрывая партнера! У В.А. были такие глаза! Но с этого — как с гуся вода. Терпеть не могу этого идиота. Ну,
кто-то, наверное, его хорошо отделал, больше этого не было. Но любви теперь между ними — ни на грош. Сволочь Иванов — такую роль испортил, в спектакле важного не хватает, равновесие теряется
из-за гада этого. Зарвавшийся кролик!
А 2 — сцена с поэтами, 21-го.Но ладно, я не о том пишу, это все рассказать можно и потом, в лицах. Давно это было.
Так вот, мы 21-го с Людкой случайно не смогли уехать домой — билетов не было. Добрались до девчонок, Людка ушла спать — вымотал спектакль. А я еще сидела на кухне, и мы с Наташкой впервые разговорились.
[*] В общем, разошлись часов
в 11 утра, протрепавшись всю ночь, после чего я могла смело сказать — фанатом я стала именно в этот день, а до того — это как-то иначе должно называться. Или по степеням, что ли? Фанат
1-ой степени, 2-ой? Наталью, видно, жар просветительства обуял. Это ж надо — так устать и тем не менее до утра то говорить, то слушать? Но ей удалось больше, чем она могла предположить. Видимо, просто надо было расставить точки над i.
Теперь, месяц спустя, я кое-что соображаю — Наташа не знала простой вещи про меня. Что подобное в моей жизни уже было (я же не случайно спрашивала, как вы все к Высоцкому относитесь — вы еще не поняли вопроса тогда) и кончилось это весьма печально. Инстинкт самосохранения — лучше отстраняться, чем потом годами расплачиваться за короткое счастье узнавания. Оттого и хотелось удрать осенью — чтобы не прирасти душой (предчувствие, что ли?). А после того разговора отмела я это напрочь, как слабость. Решила, что все, что будет с театром, будет и со мной. Забавно, но вовремя же, черт возьми! Если честно — ходить сейчас в театр — это… С духом надо еще собраться. Получить там что-либо, как прежде, чтоб лучше жилось — абсурд. Это для посторонних может еще и — очищение, потрясение и т.п. Все-таки они — Актеры, и зритель многого не видит. А когда видишь все, то, наоборот, в жизни надо воздуха набирать, чтоб своим видом еще дополнительно не сбить актеров. Мне тут Кудряшова в «Дураках» (я один этот спектакль после всего и видела, но — хватило за глаза) сообщила монолог свой о птицах. Я ее плохо вижу — слезы на глазах — и она такая же. И обе держимся. Забавно, понимание с людьми, которых вообще не замечал. С Ваниным, например. Кстати, это ведь он оставался вместо Романыча и на все дни отменил спектакли своей властью.
Помнишь, в «Калигуле»: «А за понимание надо платить или отказаться от него». Вещая какая-то пьеса, хоть цитатами разговаривай.
Ну вот. В декабре была я еще на «Старых грехах»
[*] — веселый был спектакль, без глубины особой, прямо скажем, но и без особого трагизма по пустякам.
А 30-го опять приехала в Москву. 30-го был «Дракон».
[*] Шла я на него без особого желания — надоел мне в прошлый раз, да еще и больная была — отработки по физкультуре до добра не доводят. Единственное что — второй спектакль в этот день, интересно, и еще одна мысль — послушать текст. Так получилось, что незадолго до этого интерес появился, знаешь ведь мою манеру въезжать в пьесу со слабого места. Ну я с Эльзы и входила, как-то думала на досуге, как там и что. Вроде представление какое-то сложилось. Но от спектакля
30-го ничего не ждала.
Как мы все ошибались! Это был странный немного спектакль, но… Понимаешь — двойной. С одной стороны — великолепный спектакль, массовка прекрасная, ритм выдержан, играют все здорово. Смешно, но только началась музыка, первые сцены, проходы — чувствую, что мне далеко не все равно, вхожу в спектакль без всякой защиты, откликаюсь на малейшую мелочь. Вышла Галкина. И вдруг — совсем другая, сцена зазвучала по-иному. Такую Эльзу можно было полюбить — с характером девушка, ничего не скажешь. Личность. Смотрю — открыв рот. Это с одной стороны. А с другой — Ланцелот. Полспектакля Виктор не играл, так — разгуливал. Он был — вне всего спектакля, ни при чем. И выдавал отдельные куски. То есть: идет нормальная сцена с Эльзой. Объяснение в любви. Как обычно. Вдруг Виктор посылает куда-то в 7 ряд монолог — «Да разве умеют любить в вашей стране…» Интонации — это мелочь. Подтекст, то, что за словами — рыдание. Галкина взглянула, отвернулась. Дальше — все как обычно, будто ничего и не было, привиделось вроде. Причем я-то смотрю сбоку, стоя и больная. Мало того, что въезжаю в спектакль — эмоции внахлест, то смеюсь, то — плачу. И удивляюсь — где? На «Драконе»? Причем позже приезжают наши домой, рассказывают Оле, а она им — «ну вы совсем спятили уже», а когда мы с Людкой явились, то пришлось признать — правда, такой «Дракон» был, не могло на всех одновременно найти.
Дальше — финал 1-го действия. «Я знал, что буду любить тебя всю жизнь…» — это тоже в ту сторону. Что называется, «не будет нам счастья, господин Ланцелот». Дальше — 2-е действие. Как мне повезло, что я под пушку села, у стеночки! Я так и лежала на ней. Виктора нет. Но есть — Эльза. Перед сценой бала у Галкиной что-то вроде истерики — она так кричит «Нет! Не смейте писать!» и т.д., что у Грини летит реплика, а Ванин кидается к ней, хватает за плечи, тащит в глубину сцены и там, загородив, держит какое-то время. Бал. Чувство — все наваливается, выдержать дольше нельзя, знаю — сейчас он придет, но не ощущаю совершенно. И вот — свет! Пауза. Реву уже не сдерживаясь, понимаешь, невероятное облегчение — наконец! — и четкая мысль: «Он пришел, он не мог не прийти!» Это же о роли! Я что — «Дракона» не знаю?! Рядом со мной какие-то немки, русского языка не знают, у них такая же реакция — почти вскрик.
После чего В.А. нам всем сказал: «Я люблю вас всех…» с невероятной искренностью и тут же пожелал «счастья». Его «наконец» вообще трудно переносимо. Да-а, мы будем счастливы, как же!..
Иногда с ужасом думаю — а ведь хорошо сказал, главное, вовремя. Черт его знает, когда мы уже будем так счастливы, как это было когда-то. Во всяком случае для него самого счастье — на ближайшее время понятие относительное.
Да, случайно досталось Ванину, так сказанул ему про первого ученика, шепотом добавив — «сволочь такая», что пауза повисла.
Т.ч. на «Дракона» мы теперь идем всей стаей, и раньше собирались, но теперь вообще нет спектакля, на который можно было бы не ходить, особенно из тех, где играет Виктор.
Да, интервью я отпечатала,
[36] Наташа тоже, т.ч. она должна выслать тебе экземпляр. Удивительно, но решила я
почему-то эту газету выписать. Изумлению не было предела, один из первых номеров, а я их в последний день целой кучей получила, еще идти не хотелось на почту.
31-го были на «Уроках дочкам».
[*] Праздника из этого не вышло. И актеры, и мы как-то особо не веселились. Гриня дурил за всех, его обрывали (даже Бадакова), но бесполезно. Потом мы домой ушли,
[*] пока прособирались —
уже 12. Выпили шампанского. Оля включила телевизор, и все уткнулись в него, а те, кому особо было не интересно, слонялись. Захожу в комнату — Наталья с Ладкой отлеживаются. Потом встали кофе пить, но
как-то так все.
Где-то около 4-х я ушла в комнату писать тебе письмо, написала лист и почувствовала, что пишу
что-то не то, не надо. Сомневаясь, взглянула на портрет Виктора, тот, с флейтой — и знаешь, смешно, но ликвидировала то, что успела написать.
[*] С этим портретом, правда, можно общаться. Тут явилась Наталья, которой окончательно надоел дурацкий фильм,
как-то мы сорганизовались и было около пяти, когда начались «танцы». Что мы вытворяли! В основном, четверо — я, Наташа, Стася и Людка. Ирка и Вика были зрителями. Оля уснула позже в комнате и вообще была в стороне. Лада входила в комнату, стонала — «Какой ужас!» и исчезала. Не выдерживая. Дело в том, что мы шли по пленкам. Жарр,
где-то возле мольеровских, потом — Фортинбрас, дальше — сцена привидений этих из «Оформителя».
[37] Мы не танцевали даже, а… Черт его знает, попытка пластически выразить? Старались синхронно, но это у нас с Наташей было стремление, а Людка выбивалась систематически, и все ж в одном ключе,
более-менее слитно. Я еще сказала Наташе —
5 часов, если по поговорке «Как встретишь, так и проведешь», то это — ноябрь. Дальше выключили свет. Нет, вру — был перерыв, мы просто все вместе танцевали, а потом уже снова, круг сузился, и мы продолжали. В темноте, на фоне окна делали призраков из «Ванды Джун» (интересно, что я и
спектакля-то не видела). Мы же почти все были в белых блузках с темными юбками, только Стася — маленькая, хрупкая девочка в темном — брюки и блузка. Она шла сквозь нас как Ванда. Ирка была зрителем, говорит — впечатляет. В конце концов часов
в 7 утра мы нарвались на фонограмму «Гамлета», замерли где кто был и не двинулись, пока не кончилось. Попытались прослушать финал «Оформителя», но стала заедать пленка, не удалось. После чего мы сели, где кто, и стали говорить. Так, с перерывом на утренний чай и что-то типа обеда и проговорили часов
до 3-4 дня. Как сказала Ира: «и сумели друг другу не надоесть». Странный, в общем, был праздник. Соответствующий. Когда мы
10-го собрались почти всем составом, как тогда, я подумала — ну вот, «и в радости, и в горе». Еще ведь недавно все были, в общем-то, поодиночке, но ведь
как-то объединились, быстро, незаметно для самих себя. Кого куда судьба занесет, но ведь это все — было, пусть недолго — но были вместе, были нужны друг другу. Сейчас, когда трудно, это особенно чувствуешь. Там, в Ярославле — прежняя жизнь, все те же заботы, а ты уже другой, говорить
с кем-либо трудно, не о чем, все это слишком трудно понять чужим, тянет в Москву, к своим, к тем, кто понимает с полуслова, с кем можно разговаривать цитатами — и все понятно. Нет, фанатство — вещь нелегкая.
Ну вот, уехала я 1-го домой, а на прощанье слушала мелодию из «Дураков» и уезжать не хотелось безумно. Но… Быстро переделала дела и рванула
3-го в Москву, думаю, как раз на «Дураков» успею. Но — спектакль заменили в связи с болезнью Грини (чтоб ему), был «Владимир
III степени».[*] Спекта-акль! То ли из-за замены, то ли после похмелья, но от всех летели искры. А главное — важность происходящего. Витя так выпрашивал этот орден, чуть не со слезами на глазах. Боче смерть как хотелось увидеть сына военным и женатым, а Ванин взвыл, подумав о Бурдюкове. У-у! Сыграли, ничего не скажешь.Дальше было одно из самых интересных вещей. 4-го мы с Натальей двинулись на «Штрихи».
[*] Но об этом повесть писать можно, это я потом расскажу, достаточно того, что спектакль был прекрасный! Я могу сравнить это только
с 25 ноября. И такой же бесконечный и отнимающий все силы. Т.ч. когда мы вышли, то идти на
9 часов сил уже не было, хотя никто из фанатов не пришел, и узнать, как прошел девятичасовой, мы так и не сумели. Но и досталось же нам! Еще бы — на весь зал — две фанатки
на 1-ом ряду. Витя, конечно, делился с нами самым сокровенным — он рассказал нам про смерть Шукшина и побеседовал, мимоходом, так,
два-три взгляда в «Миль пардон, мадам!» Мокрое место от нас осталось после всего этого. Но нет, это надо в лицах и красках описывать. Очень ровный спектакль, ни одной сцены, пролетевшей мимо, даже не с Витей. Где надо — смешно, где надо — «не очень», все от и до и на полную катушку. Виктор — каким я его давно не видела, диапазон громадный, от вселенского понимания до молодого озорства, от взрыва отчаяния до тончайших переходов. Ну, вот и скажи, ведь гениальный актер, а?
Мы получили все, что можно было, все было — и великолепный спектакль, так сказать, эстетическое наслаждение, и бездна эмоций от смеха до боли, и откровения Виктора. По всем статьям. Второй такой спектакль мы бы уже явно не вынесли (тем более важно — а актеры?).
А 5-го я уехала, до 8-го, до «Мольера». Смешно, но «Штрихи» жаль особенно. В некоторых сценах Виктор был тогда таким молодым, ясным, «докалигульским». Я ведь его и не видела с тех пор на сцене. А в жизни — ну что, я думаю, что у нас всех были лица не лучше, это уж точно.
А ведь «Дракон» совсем скоро. Говорят, В.А. в Ленинграде. Уж не Арбенина ли играет.
[38] Ну, будет им Арбенин.
Вот так. Вся жизнь — вроде как объективно не своя. Про себя и сказать нечего. Ну, экзамены удалось сдать прилично, несмотря ни на что — сама удивляюсь. А больше ничего.
Увидимся, надеюсь, скоро. Если приедешь не на день /…/, то будет у нас с тобой комната на всю долгую ночь, да еще с видом на университет. Одно только — как у тебя настроение? Не верится мне, что будет полегче к февралю. Я насмотрелась тут на отходняк Лады с Натальей после «Гамлета» и стала беспокоиться за всех буквально, кроме, пожалуй, Ольги Кандрамашиной, потому что Людку мы уже сердечным поили, да и Стася валидол таскает (для других или для себя уже?). Вижу нас всех заранее — бр-р, зрелище. Кстати, нет ли у вас в аптеке неких капель Зеленина, так, кажется? У Наташки кончились, а они с Ладой без этого уже не обходятся. Я пока подобную гадость не пью, не приучаюсь, хотя иногда… Так что готовься заранее, «все остальное в жизни — мелочи», постарайся ни на что не реагировать. Я тут вот сижу и отключаюсь от всего на свете. И правда, бери отпуск чуть раньше, сначала просто отдохнешь, я не знаю даже, сколько нам всем понадобится сил, если не будет изменений и придется все это смотреть. Текст «Калигулы» у меня с собой, поговорим, особенно, если ты будешь 11-12. Музыку захвати, если запишешь, хорошо бы.
Да, не получилось у меня веселого письма, однако. Не вышло. Бестолковое малость, путаное. Ну ладно, что ж, может мой вид будет веселее. Передай от меня привет родным. Отпустят тебя, а?
[Материалы, переданные автором, здесь и далее по этическим соображениям публикуются с большими сокращениями. Редакция приносит свои извинения как тем читателям, которым тексты покажутся неполными и обрывочными, так и тем, кто в силу причастности к событиям может быть задет излишней откровенностью публикации. — Прим. ред.]
Владимир Леви.
Sapiens
Я есмь
не знающий последствий
слепорожденный инструмент,
машина безымянных бедствий,
фантом бессовестных легенд.
Поступок — бешеная птица.
Слова — отравленная снедь.
Нельзя, нельзя остановиться,
а пробудиться — это смерть.
Я есмь
сознание. Как только
уразумею, что творю,
взлечу в хохочущих осколках
и в адском пламени сгорю.
Я есмь
огонь вселенской муки,
пожар последнего стыда.
Мои обугленные руки
построят ваши города.
Memento
Она так близко иногда. Она так вкрадчиво тверда.
Посмотрит вверх. Посмотрит вниз. Ее букварь составлен из одних шипящих.
Разлуки старшая сестра. Вдова погасшего костра.
Ей бесконечно догорать. Ей интересно выбирать неподходящих.
Пощупай там. Пощупай здесь. Приткнись. Под косточку залезь.
Там пустота, там чернота. Обхват змеиного хвоста: не шевельнешься.
А если втянешься в глаза, вот в эти впадины и за, то не вернешься.
Я маялась. Маялась и не могла понять, чем.
Пятого, после статистики,
[39] все-таки поехала к Машке. Говорила: хочу к кому-нибудь, чтобы погадали. Что-то знать хочу, понять, чем маюсь.
Карты, странные, самодельные с цифрами, разложились моей рукой так, что не совпала ни одна цифра. Машка сказала, что мне нельзя знать, что идет ко мне.
А седьмого я наконец собралась к Светке.
[40] Собрала все-все фотографии ЮЗа и приехала. Она — спала. Дома только ее мама.
Тихо, немного неловко.
Встала — измученная, сонная, светлая.
Болтали, смотрели фотографии, обедали. /…/ Смотрели телевизор.
Светланкина мама заговорила, что праздник большой и надо бы сходить в церковь, в Данилов монастырь.
«Мы ведь ни разу еще там не были…»
Опять смотрели телевизор.
Показывали «Садко». Выходит одетая Светка и говорит: «Ну, мы идем или нет?»
С шутками, почти неохотно, мы вышли из дома и пошли к Даниловской площади.
Пятого, от Машки, я звонила узнать — будут ли «Уроки…»
[41]«Конечно, будут», — сказала удивленная Настька,
[42] хотя накануне из-за гриппующего Грини отменили «Дураков». Я соврала, что приеду на спектакль, а сама, купив подарок Лариске, уехала домой.
Я, Светка и ее мама, мы шли по месиву из снега и воды. Болела нога.
В Монастыре, перед входом стояла елка, было очень чисто и очень напоминало Новый год.
Рождество — большой праздник, и в Храме была служба.
Мне дали свечку и сказали ее поставить. Опять мне было неловко от того, что я, некрещеная, пришла в Храм и совершаю христианские обряды, предназначенные не для меня. Со свечкой я подошла к иконе, зажгла и хотела уже поставить, как меня оборвала какая-то женщина, стоявшая рядом. Она зло и недовольно прошипела: «Куда ставишь? Тут и так много, слипнутся». Я отшатнулась, что-то чистое, хорошее сжалось во мне в обиженный комок, но я, обойдя, все-таки поставила свечку.
Поставила и, чуть испугавшись, поняла, что не подумала ничего, не пожелала. Поставила «пустую» свечку.
Потом мы побродили вокруг, не пошли в Храм, стоявший немного в отдалении, за какими-то строительными плитами, сложенными штабелями.
Вышли за ворота. И тут зазвонили колокола. Мы несколько минут стояли и слушали, а потом я села в трамвай и уехала в обратную сторону, на Чистопрудный бульвар. Ехала долго, неуютно, задумчиво. Мечтала выспаться, потому что несколько ночей очень плохо спала, ворочалась и часто просыпалась.
Я ушла от Храма в шесть часов вечера, а в десять легла спать, но не заснула, а провалилась опять в какое-то тревожное, зыбкое забытье.
В полчаса одиннадцатого позвонил телефон. Я вздрогнула от неожиданности, с трудом очнулась и взяла трубку.
Я не помню, сколько раз за эти три недели я страстно желала писать. Писать обо всем, чтобы не забыть, чтобы
долго-долго помнить, чтобы не промолчать. Я не имела права молчать перед самой собой. Я брала ручку, брала дневник. Открывала, перечитывала единственную новогоднюю запись
[*] и опять откладывала тетрадь.
Что-то всегда стопорилось внутри, накатывал
какой-то внутренний, непонятный ужас, и я отступала.
Все началось день в день. Ровно год назад, именно в ночь с седьмого на восьмое января мы с Санькой первый раз ходили в морг. Ровно год назад я столкнулась с Дамой, которую тогда не боялась. Теперь, внезапная, роковая, необъяснимая, она успела пробить брешь, она успела напустить своего дыхания. И не только мне, но и многим. Впрочем, об этом потом.
… 28.01.90
Я сейчас сжатая, ослепшая и оглохшая. До меня почти не докатывается та боль, что изводила в самые первые и самые последние дни.
Я — равнодушная. Наверное, именно поэтому я пишу о фактах — мелочно, длинно, нудно. Пишу обо всем, хотя желание у меня двойное.
Одно, самое первое, это все запомнить, обо всем, даже самом мелком, записать.
Но в эти дни столько раз я вязла в фактах, в разнообразии их, в противоречивости, в согласии или несогласии с ними, что почти физически захотелось вырваться из месива человеческих судеб и суждений, попытаться увидеть все разом, как бы сверху, как бы расценить судьбу, которая все поставит на свои места, независимо от нас.
Иногда кажется, что мне это удается.
Я уже встречалась с Ней. Встречалась по-разному, но чаще, чем мог бы человек моего возраста.
Она одинакова только для тех, кто уходит, и всегда разная для тех, кто остается.
Когда-то это уже было, я сразу вспомнила. Умер /…/. Умер так же — внезапно, неожиданно.
В телефонной трубке я услышала совершенно твердый, страшный в своих интонациях голос Лариски. Отрывисто и упрекающе.
— Где ты была?
— Я была у Светки в гостях.
— Я теперь совсем одна осталась. Навсегда.
Услышав это, я чуть-чуть дернулась — «Лариску заносит, небось с Ольгой поссорилась», но голос смягчила и спросила.
— Почему?
— Оля умерла.
Я запомнила, что случилось со мной в ту, первую, секунду. Внутри с ужасающей мгновенностью взорвалось ощущение пустоты. Она стремительно заполнила чем-то звенящим голову, а потом накрыла собой весь мир. Как будто захлопнула единственную дверь, а за ней, там, осталось все прежнее — вся твоя жизнь, в которой, наверное, были и радость, и вера.
— Как?!
— Оля умерла. Сегодня.
Не помню, что говорилось потом. /…/
Потом звонила девчонкам, ревела в голос, орала, что ненавижу Смерть, что все неправильно, несправедливо, бесполезно. Только одну ночь я позволила себе так выплескиваться. Никто не верил, все молчали так, как будто после моих слов прерывалась связь. Я не помню, какие слова и кто мне говорил. По-моему, больше говорила я.
«Ну как же можно отнимать у человека единственное, последнее. Как можно!!!? Ненавижу, ненавижу ее — эту гадость, эту неумолимую и непререкаемую Смерть. Ненавижу».
Самым первым чувством был ужас. Мне было страшно за Лариску, за себя, за то, что не устояла я перед Ней.
Это было расчетливо, холодно — будто ударили по самому беззащитному и светлому. Будто бежал, распахнутый от счастья, веры, надежды, и вдруг сорвался в пропасть, которая открылась под твоими ногами там, где не могла и появиться.
Несколько часов по телефону, захлебываясь слезами и словами. Потом я попыталась лечь спать.
Всему, что происходило и во сне и наяву, всему, что я видела, слышала, всему, что снилось и говорилось, я верила безоговорочно. Где-то, я точно помню, именно эта вера помогла не ошибиться. Я не сходила с ума, хотя потом, через неделю или две, я все время думала, что теперь знаю, как люди лишаются Разума. Оказывается, это очень просто. Это когда ничего не можешь оценить, понять, просто не успеваешь, потому что и мысли и события проносятся в твоем воображении с такой бешеной, необъяснимой скоростью, что мозг не в состоянии их остановить. Карусель, кружащая тебя до полного изнеможения. Ты поддаешься смене видений, перебираешь их и не пугаешься их быстроте и неосмысленности. Быстрее, быстрее, головокружительнее, головокружительнее, а потом срывается маленький, последний винтик, и ты уже не сможешь вырваться, не сможешь вернуться в мир, где ты хоть что-то или кого-то можешь узнать. /…/
… 30.01.90
/…/ Я помню, как я неслась к Лариске на работу
[43] и просто холодела от мысли, что я могу опоздать. Она уйдет и канет в водовороте людей. Никого не будет рядом, а она будет один на один с ужасом внутри ее, с Памятью, которая изощренно будет преподносить только самое больное, только самое неразрешимое и безысходное.
Я ловила машину у 7-го парка, а по шоссе неслось угрюмое, грязное, смачно чавкающее стадо. Там не было людей, были роботы, управляющие этим стадом. Что для них маленькая фигурка человека на обочине? Я зверела от их равнодушия, я что-то орала пролетающим мимо машинам и чувствовала, что готова рыдать от бессилия. Даже здесь, даже просто перед равнодушным и деловитым монстром за рулем я была козявкой, ничем! И все же я не опоздала.
Самая яркая вспышка Памяти из того дня — лицо Лариски. Оплывшее, похожее на какую-то маску, почти не видно глаз, а только пелена непонимания и тупости мелькала изредка между опухших век. А у меня была только одна, навязчивая, не исчезавшая потом все дни мысль: «Я должна держаться». Я не имела права кричать о том, что я тоже не понимаю, как это так — Ольги нет. Как это вообще можно представить — исчез человек? Она ведь только была. Вот тут, там, ходила, смеялась, удивляла! И как это — нет?!!
/…/ Суета. Приторная, вкрадчивая и спасительная суета.
Мы ездили за цветами. Белые гвоздики. Огромный букет из двадцати штук приятно тяжелил руки. Белые, тоненькие. Ее любимые. По дороге Лариска, захлебываясь от прорывающихся истерик, шатаясь от края до края тротуара, рассказывала, как это все было. /…/
Картины! Как в калейдоскопе.
Реанимация. Почему-то представлялись окрашенные голубым двери. Настька
[44] и Лариска, окаменевшие от ожидания. Вытянувшийся, напряженный от ужаса, от предчувствия Сашка.
[45] /…/
На ЮЗе доигрывали «Смерть Тарелкина».
[46] Как обычно. Лариска и Настька молчали (!?) до конца спектакля. Нет, все правильно. Невозможно было ломать течение этого. Но как они выдержали?! Как смогли не кусать губы, сдерживая слезы, как они держались?!
Веселые, расслабленные, не ведающие…
Я представляю. Это их маленькое пространство у гримерок, представляю его — заполненное людьми. Посередине двое. Потупившаяся, бледная Лариска и удивленно отстраняющийся Виктор.
Бывают паузы — неожиданные и самые единодушные. Наверное, именно такая, тихая до звона пауза повисла в ту секунду, когда Виктор закричал: «Ты что, с ума сошла?!!» И Лариска повторила: «Оля умерла».
«Театр завыл. Еще не все зрители ушли… А стон стоял…»
Они кричали от ужаса, и кто-то первый в этом ужасе произнес «Романыч». И понеслось страшное колесо. Они судили его за кощунство. Нет, не за смерть, а за кощунство над живыми.
[В дневнике Л.Орловой (январь-февраль 1990 г.) записано: «…Мы добрались в театр. Шел спектакль, и ничего нельзя было говорить до конца. Голоса их актеров безмятежно звучали по селектору, и было опять
как-то странно и нереально, что вот они, они как бы еще живут там, в другом времени, до черты, а мы — мы уже здесь, в настоящем, и я, я обязана быть первым вестником, я обязана сообщить Виктору первая. Обязана шутливым обещанием, данным на шутливую просьбу.
И вот окончен спектакль. Аплодисменты. Я стою за кулисами и жду. Наконец, они идут. Идут шумные и веселые — прошлое идет на лобовую атаку с настоящим. Я не вижу никого и ничего, кроме Виктора. Мы стоим друг против друга. Он и я. Больше никого и ничего. Я медленно иду ему навстречу, он смотрит на меня совершенно ясными, чистыми, чуть удивленными глазами. Я тереблю его за пуговицу и не знаю еще, что запоминаю эти глаза навсегда. Глаза до черты. Губы с трудом разжимаются и удивительно легко произносят. Он резко отскакивает и орет: “Ты сошла с ума!!??..” Орет, уже зная, что это не так. Я повторяю. Все. Время соединилось. Топор опущен. Начинается страшная действительность. Одна на всех! Все хотят, чтоб это был сон, но мы живем…
Потом громко заплакал Гриня. С Виктором истерика. И вдруг стон по всему театру. Зрители еще не ушли. Стон врывается через открытую дверь к ним… В следующее мгновение мне хочется уйти, спрятаться. Но везде, везде потрясенные люди. Люди, сорвавшие маски, им не до себя. Я брожу по театру, невольно всматриваясь в эти лица, и узнаю, кто есть кто. А из гримерок уже не стон, уже ругань, мат. Все сейчас ненавидят Романыча, своего “отца”, создателя, режиссера, диктатора. “От спектаклей освобождает только смерть”, — говорил он. Он говорил так, и Оля играла свой последний спектакль. Играла больная, с температурой. Играла в массовке...
Ему тогда повезло, что он был в Америке. /…/
…Когда этот маленький измученный коллектив сказал — МЫ, и был этим МЫ, мне очень, очень хотелось верить, что все переменится, что они докажут ему, что они — это одна, большая, единая личность. И что ему, одному, без них никуда. Мне очень хотелось верить, что так будет, что Оленька моя умерла не просто так, а с назначением. Мне так хотелось верить, что меня почти уговорили эти люди, которые, захлестываемые собственной энергией коллектива, вдруг все прозрели и снова стали едиными, потому что болели одним, жили одним. И я почувствовала тогда, что ЭТО такое — люди, которые вместе. Я одна там была чужая, не участвовавшая, вне этого коллектива, и поэтому только я одна смогла это почувствовать. Они почти заставили меня в это поверить. Но когда прибежали Настя и другие и сказали, что теперь все будет
по-другому, я им сказала фразу: “Мы сами с усами”.
[47] Романыча не было, и был бунт. Но были их спектакли, которые меня
кое-чему научили, а это фраза из одного из них». —
Прим. ред.]Грех?! Да, страшный грех, обвинение в смерти, обвинение в «убийстве». Но тогда это было по-другому. В первые минуты они все были людьми — чистыми, гордыми, желающими изменить свое рабство. Но это были только минуты, а потом они их сами же и испугались.
Когда я услышала о том, что они проклинали Романыча, я почувствовала только одно — справедливо. Да, справедливо было помянуть его страшным словом. Но справедливо и другое. Пойти дальше. Отрешиться от роли обвинителей и стать людьми, способными творить. Никто не задал себе этого вопроса. И вся чистота рухнула обратно, в гниль, в ложь, в предательство.
Нет, нет, это все было потом.
А сперва было ощущение рока — страшного, неумолимого рока. Лариска была у Ольги днем в субботу. Она отыграла «Трилогию».
[48] /…/ Тогда же, вечером, приехала «Скорая». /…/ Ольга на гормонах. А у нее
температура 40° и очень низкое давление. Врачи /…/ вкололи анальгин и уехали.
[49] Анальгин!! А его нельзя было делать! Нельзя! /…/
/…/ Оля смирилась. Ей днем было лучше, даже врач сказал, что выпишут дня через два. Потом резкое ухудшение.
В свидетельстве о смерти: ураганный отек легких. Она задохнулась. /…/
Лариска с Настькой одновременно почувствовали, что Ольге стало легче. А ей стало легче, потому что пришла смерть. Уходя, Оля коснулась их. В Храме, в Даниловом монастыре, шла служба. Я была в 400 метрах от больницы и ничего еще не знала. /…/
8-го, с цветами и фотографиями, мы приехали к Катюше.
[50] В который раз я поразилась этому человеку. То, что во мне вызывало смятение и ужас, Катюша снимала просто словами. Лариска рядом с ней просто физически расслабилась и отдышалась. Часов пять просидели мы у нее. Она наклеила фотографии. Часа два по полу лазила, нам помогать не давала, а сама постепенно начинала злиться. Это потом я узнала причину ее внутреннего взрыва, а тогда я только вздрагивала от ее тона и понимала, что именно я вызываю большее раздражение. Меня это дико пугало, но обратного пути не было. Я не могла изменить своего поведения. Я поклялась быть рядом с Лариской эти дни, а для этого мне пришлось стать наглой. Да,
где-то я была наглой, но иного выхода не было. Вот этот компромисс, наверное, и вызвал в Катюше презрение и боль.
Я успела созвониться и договориться с девчонками о деньгах на венок. Все потом привезли к Театру деньги. Впрочем, это потом. Я все время забегаю вперед, все время спешу.
А спешить уже некуда!
Смешно, но некуда.
Надо думать. Надо что-то решать.
Впрочем, мне кажется, душа моя, натура дурацкая уже решила что-то по-своему, и я это обойти не смогу.
Когда все было готово,
[51] мы пошли в Театр. /…/ Меня остановили Ирка и Валька. Они еще ничего не знали. И тоже — не поверили. У всех было одно и то же в глазах — барьер непонимания. Чистые, чистые глаза, а потом вспыхивает точка, и люди покорно принимают в себя смысл слов. Только не застывать, не останавливаться. Только идти, делать. Делать — последнее. Последние подарки, последние цветы, последние дни. Они должны быть безошибочными.
Я ошибок не избежала.
В Театр войти было жутко. На сцене готовили помост. Мы прошли в фойе. Там натягивали черную ткань на голую доску стенда.
И сразу — люди. /…/ Некоторые были совершенно растеряны и бродили молча по Театру.
Были сильные. Их сразу можно было почувствовать, потому что к ним тянуло. Ира Бочоришвили, Черняк, Борисов… От них веяло смесью понимания, боли и силы. Откуда — сила? От желания — делать? От знания жизни? От веры во что-то, пока для нас, более молодых, недоступное?
Откуда — сила?
В Театре было тихо. Оглушительно тихо. Как будто двенадцать лет жизни, радости, аплодисментов — съежились, превратились в черный мрачный склеп, который хранит только гниение, близость к Смерти. Черное, замкнутое, давящее пространство.
Я не могла себя пересилить и не наступала на сцену. На сцене стоял черный помост.
Люди молчали или говорили очень тихо.
Тогда я услышала, что ищут Романыча, что он еще ничего не знает.
[52]Я старалась не смотреть в глаза людям. Очень старалась, но не удалось. /…/
Церковь с того дня изменилась.
[53] Раньше у нее всегда по вечерам светились кресты. Они вырывались из сумерек и будто плыли над куполом. Когда ушла Ольга,
какое-то странное облако, дымка окутала кресты и теперь их не видно.
… 31.01.90
Я спешу задать себе вопрос. Спешу на него ответить, хотя для настоящего ответа прошло слишком мало времени.
Что изменил Ольгин уход в моей, именно в моей, жизни? Я думаю, что надо подождать, посмотреть, прислушаться.
Пока только одно совершенно ясно — я абсолютно по-другому воспринимаю теперь спектакли.
Не по-театральному, а как бы по жизни. Я их всех видела настоящими, и это стало точкой отсчета.
/…/ Ох, перехожу к тяжелому мероприятию — «Дракон» 31.01.90. Прихожу к театру к 18.00 и с ужасом вижу очередь, которая вылезла аж за железку. Но нам повезло — мы все стрельнули билеты, а О.К. с Юлей Чуриловой повисели на Ванечке (администраторе).
[55] Была боковушка, коврик и толпы в проходах, короче,
что-то несусветное. Мы с Л.А. первый раз смотрели «Дракона» с левой стороны
2 ряда (очень интересная точка. Может, поэтому я увидела там нечто странное). Надо сказать, это был самый лучший «Дракон» в моей жизни. Правда, Стася по этому поводу сказала: «В гробу я видала такие шедевры». Появляется Витя. Первое, что я вижу, это
3 тонны грима на его физиономии (тон песочного цвета, наложенный грубо и неумело, причем
черно-синие мешки под глазами оставлены нетронутыми. В голове мелькает: «Здорово мы замаскировались. Покойников так гримируют»). Роль ведет ровно и очень серьезно, но мне не до него, потому что надо мной рыдает Коппалов, так что Витя даже говорит: «Ну Кот, ну не плачь!» Появляются Эльза и Шарлемань, а я удивляюсь, насколько все серьезны и собранны, только Витя какой-то… отрешенный. Здесь и в то же время не здесь. Когда-то, в лучшие времена, он выходил таким
во 2 действии. Запомнился пронзительный рассказ про жалобную книгу и потом… Появление дракона. Я впервые наблюдала с такого расстояния сцену с палкой, не знаю, в точке обзора ли дело, но мне почудилось там напряжение, равное калигульскому. Все персонажи, кроме Вити,
куда-то подевались, я даже не поняла, на что направлен его взгляд, не слышала ни одного слова текста, в голове от напряжения загудело так, как будто поблизости включили токарный станок. Я видела только Витино лицо
с какой-то странной улыбкой, а потом вообще одни глаза, про которые точнее всего сказал Шекспир: «Ты повернул глаза зрачками в душу…»
[56] Очень напряженный, удерживающий взгляд. Но удерживающий не палку, не руку дракона, а самого себя — от желания метнуться в сторону, сделать
что-нибудь. Чудовищное усилие заглушить в себе голос природы, заставить подчиниться тому, что сейчас произойдет. Наконец, палка опускается. Витя расслабляется, облегченно вздыхает («Все-таки не сейчас…»), и тут она начинает подниматься снова. Морщась от усилия, он откидывается на стену и придает лицу то же выражение. И тут реплика: «И весь город узнает, что вы трус». Фраза прозвучала очень неестественно, потому что шаг, который он сделал перед репликой, отделил Ланцелота 31.01.90, жизненное кредо которого: «Я не стану Ему противоречить»,
[57] от привычного героя, невесть откуда взявшегося на сцене. Далее Эльза интересуется, чего ради рыцарь вмешивается в чужие дела. Ланцелот очень горячо ее убеждает, что «даже деревья вздыхают, когда их рубят», — на что мне захотелось заметить: «Чья бы корова мычала. На себя-то посмотри». Потом появился Бургомистр, на удивление приличный. Ровно столько кривляния, сколько нужно. Сцена выпроваживания Ланцелота проходила очень своеобразно — Гриня все время норовил заглянуть Вите в лицо, а тот упорно улыбался и при этом отсутствовал. Наконец, он ушел, Гриня проводил его мрачным взглядом и буркнул себе под нос: «Черт, ну и рожа!» А.С. — злой, напряженный. Колоссальные усилия, направленные на то, чтобы сдержать собственные эмоции. Далее несколько сцен промахиваю. Объяснение в любви. В нем было
что-то от 30.12.89, но не так резко, мягче, сглаженнее. Любовь там
все-таки присутствовала, хотя и
какая-то странная. «Последняя любовь». Ну и далее. Последний монолог
I действия. «Витькин уход», как выразился Колобов (их название, в данном случае весьма уместное). Странный это был монолог — медленное, плавное скольжение вниз, в смерть. И нельзя ни задержать, ни окликнуть — этого сползания не остановить, да и не нужно — и не потому, что оно зависит не от человека, а просто так надо. И сам герой принимает свой «уход» как должное. До жути натурально звучал кусочек про смерть. «И слышу, будто зовет меня
кто-то по имени: «Ланцелот! Ланцелот!» Он так произнес имя, что у меня мелькнула мысль: наверно, она его действительно зовет. И именно таким голосом — неживым,
каким-то механически-хриплым. Как раз такой голос должен быть у Смерти. И я ужаснулась, насколько
это реально. Никогда ни до, ни после 31.01. этот зов не звучал так натурально. «Не хочется идти, но, кажется, придется на этот раз», — еще страшнее, потому что человек спокойно идет на этот жуткий голос. А потом — «высокий штиль» — без всякой иронии, как 30.12.89. Совершенно серьезно. Как завещание. Юля Чурилова восприняла «Дракона» 31.01.90 как клятву на верность. В этом для меня есть
что-то рациональное, потому что очень давно слова о любви и вечных истинах в этом монологе не звучали так убедительно. «Истинная свобода слова дается только приговоренным». Человек уходит от нас. Спокойно и осознанно. Только одна попытка рвануться обратно: «Эй, вы!» И еще раз: «Эй, вы…» — не вернуться, бесполезно. «Это можно… Жалейте друг друга!» — умоляя, требуя, не знаю даже, как. Кафедра. Церковная проповедь. Нет, не то. Последнее слово приговоренного к смерти. Еще один экспонат в коллекцию предсмертных речей /…/. «Ну вот и все. А я ухожу», — констатируя. Все. Точка. Конец. До стены оставался шаг. Он поднял руку, чтобы попрощаться, но не успел. Как от толчка в грудь он закинулся на стену и покорно сполз по ней. Темнота. В буфете — круглые глаза Юли Обойдихиной и ее жуткий крик и махание руками: «Жалейте друг друга! Нет, ну жалейте друг друга!!!» И Стася: «Не пускайте его на сцену!» — тоном: «Ну не ставьте зрителей под колонной!»
[58] О.К.: «А чего вы волнуетесь! Разве такая трактовка не имеет права на существование?» Имеет, конечно, даже чисто исторически, но при чем тут трактовка? 2 действие. Очередной экспромт А.С.: «У тебя ума не так уж много…» Трыков:
«Чик-чирик…» А.С.: «Гениально!» В сцене
Генрих-Эльза реплика: «Он умер, бедный!» — прозвучала как нельзя более убедительно, с учетом того, чем кончилось
I действие. Гриня
почему-то не дал Гале договорить реплику про то, что она вырвет лист. Решил, что она сейчас истерику закатит?
По-моему, истерик там не предвиделось, Галя была вполне в форме и на уровне. Появление Ланцелота. У меня в голове мысль: «Вернулся». Именно что. Явление тени героя народу. — А вы верите в привидения? — Нет, — ответил Ланцелот и растворился в воздухе. Тень, явившаяся укорять несчастных горожан в том, что они жили неправильно. Но привидение не может судить или вмешиваться в жизнь, только спрашивать. Тем более не может пообещать счастья: какое уж тут счастье — с того света? А.С. пытался вернуть его на землю, отчаянно махал руками и ногами, изображая ветряную мельницу, наконец, Витя ответил, вернее, рявкнул ему в тон: «Но зачем ты был первым учеником?!» — и тут снова съехал в «привидение»: «скотина такая…» Пожелание счастья, конечно, было «великолепным», как всегда. Но больше всего мне там запомнилась фраза: «После долгих забот и мучений», — с дрогнувшим на последнем слове голосом. «Что, опять вечный покой?» Как опять же выразилась по этому поводу Стася, «мы просто не знаем, куда деваться от счастья». В этой фразе весь «Дракон» 31.01.90 — гениальный шедевр. /…/
/…/ Подъехали впритык, в 7-ом часу. Лом жуткий, как на все спектакли в эти дни. (Как попасть на спектакли с 8 по 12-е?!) /…/ Честно говоря, не знаю, что бы я делала, если б не пустили. Плохо мне было. Уже по дороге — бешеное волнение, даже теперь — то же самое, трудно писать. /…/
Ворвались мы, спешим. И вдруг голос — знакомый. Кузнецова! «Кого это ты пускаешь — без билетов». Я обмерла, но, к счастью, она ушла в глубину, я пролетела на правый конец к Ане Рындиной. В проход вставать было уже нельзя, некуда, нас поставили за спинами сидящих «белых людей» в правую дверь. Причем Аня притащила Оле К. стремянку, за которую все задевали в 1-ом действии, а Коппалов вообще не мог пройти.
Там мы и стояли все время. У меня были цветы (Ладка купила два букета, и я тоже решилась подарить, купила). На 2-е действие пристроила их Ане, она в администраторскую уволокла. /…/
Спектакль.
Чувство сложное, толком сказать не могу. Все-таки восприятие сбоку, искажает. Конечно, не очень весело, мягко говоря. Но и не умирая. Виктор выходил — сердце колотилось. (Нет, не получается запись — обговорить ведь не успели, я уехала.) Впечатление же такое — Виктор пришел в себя. Играл очень собранно, хорошо. Как будто говоря — «Я король».
[59] Т.е. Актер. Я — актер, а не
кто-нибудь. И я сыграю. Очень жестко. Но не впустую, даже совсем. Сразу обрадовало то, что монолог в сцене с Эльзой провел иначе. Галя играла бесподобно — она удивительно хорошо начала — с появления,
с 1-ого взгляда на Виктора — такая нежность и стойкость. Потом ее текст — явно — она беспокоится за отца, все время следит, рвется удержать. А ее слова — «А что еще можно сделать?» и «Не будет нам счастья, господин Ланцелот» — просто гениальны. Не мог он не закричать после этого. Но вдруг — переход, действительно рассказ — как мы будем любить друг друга и будем счастливы, обязательно будем. Вопреки всему.
Еще до того — монолог о книге. Так звучало! «Все вспомнится, все, что делают с людьми» (и то, что с нами — тоже). А для кого — «да для нас, для меня и немногих». (Подтекст — «да, для меня. Я спасал и буду спасать людей, чего бы это мне ни стоило».) Не было ни следа прежней мягкости. Профессиональный герой. (А может, это и ближе к Шварцу, надо прочесть.) Во всяком случае, он играл. На Ланцелота можно было смотреть неотрывно — он был интересен. Тема! Вернулась роль, другой стороной только.
Еще раз по сценам, что вспомню. Эльза! Как она опустила голову на плечо отца, ожидая неминуемой гибели! Так. Да. Эта сцена — я боялась ее. Виктор. Я не видела его лица после 1-ого выстрела, помню только растерянно-надломленную интонацию. Но в себя быстро пришел, хотя и держался поодаль. А потом — вот-вот все будет кончено. И он не спускал глаз с Дракона. С Дракона, или с палки (?). Но все равно — взгляд — удерживающий, дикое напряжение при абсолютной собранности, готовности дать отпор. Когда все кончилось, он расслабился и — тот жест — рука ослабляет воротник. Все — всерьез. Но в 3-й раз — с улыбкой, уже зная — спасен. Мгновенный рывок — страх за кота. Здорово!
Да, все забываю. 1-ый выход Ланцелота — вид не очень и сбился в тексте — стало страшно. В тексте он еще разок запнулся где-то. Но без особых сбоев. Хотя весь почти текст — очень тихо. Очень!
<Я буду играть! — так это называлось.>
Мило поговорил с котом. Очень был рад Эльзе (она ему — не менее). Дальше все в норме, подробностей я не помню. /…/ Дальше — Гриня. Он тоже проехался по ВРБ. Они же похожи. Ванин тогда тоже сказал фразу «Мне нравится…»
[60] с интонацией ВРБ. А тут! Мы долго не врубались, что это он так руками дергает, почти снимая с себя одежду — а это же ВРБ! Оля как захохочет, я — за ней. Гриня и дальше продергивал временами. Но играл прекрасно. Очень зло. Точно, беспощадно. Вот так бы всегда! Без выкрутас лишних, строго по внутренней линии. Зловещая фигура получилась. То, что надо. В их сцене Виктор ходил более-менее с улыбкой,
но (!) от роли не отстраняясь, как это бывало, сдержанно. Ванин был менее интересен, выглядел уставшим, хотя играл добросовестно.
Объяснение с Эльзой. Кстати, «а я и не обижаюсь» — весь диалог звучал суше и нервнее, напряженнее. Вручение оружия. Гриня молодец. А его — «у нас даже вещи…» — опять для меня возник подтекст — «дисциплинированны», — сказал Гриня. Прозвучало!
То, что было в сцене прощания, я описала. Галя удивительно искренне призналась в любви. Обиделась и замкнулась при его ошибках, болтовне. Потом отчаянно ответила на его вскрик — «и увез бы…» Монолог. И радость, светлая радость — «А я и теперь счастлива». Тоже с тем же смыслом — «Да, я счастлива. У меня счастливая судьба — я встретила тебя, а все остальное — мы переживем вместе».
Такое партнерство! Кто б мне сказал, что Галя — такой чуткий партнер. С ума сойти!
Бой. Массовка работала хорошо. Саша выглядел плохо, опухшее, видимо, от пьянства лицо. Но играл, держался стойко. Вместо Оли — Боча. Железная женщина. Но ей было явно не по себе. Не знаю, привиделось ли мне — я глядела на нее в упор, думая об Оле, а она смотрела в нашу сторону. А когда я наклонила голову, не выдержав, она… она ответила тем же жестом и, казалось, вздохом. Совпадение? Или?
Монолог Виктора. Ира говорит — со слезами на глазах. Уверенно — «ты меня знаешь» (после короткой паузы, мимоходом). И то, что «умираю — не зря». Удивительно твердо, обдуманно — «Из-за нас… гибли самые лучшие». Это была игра! Его тема! Посыл. Потом — растерянность, что-то гамлетовское — «не договорил». И — на прощание. В общем — гамлетовский уход. Сознание правоты, долга своего и неизбежности. Мрака не было. И отчаянья — тоже. (!!!)
А ведь, кажется, этот вариант монолога станет для меня эталоном. До сих пор из всего этого куска помнилось лишь чувство — «кто-то зовет меня по имени…» и «я знал, что буду любить тебя всю жизнь». А тут! Важнейший кусок роли не только эмоционально, а по смыслу — раскрытие образа, откровение.
2-е действие. Абсолютно не настроенный смеяться Генрих. Бургомистр, настроенный явно по-деловому, злой, как Романыч. Сурово, жестко, драконий мир. Появление Шарлеманя. Мамонтов едва держался на ногах. Но это так ложилось на роль (или было — ролью?). При бургомистре не лучше, нет — хуже. Измученный, пытающийся что-то сказать человек. Честно говоря, мы с Олей, обнявшись, тоже едва не качались.
Эльза. Я не видела рассказа о гибели Ланцелота — ужасно жаль. Начинала она хорошо. Очень нежная, милая (у нее, кстати, новое платье, и оно ей очень идет, делает очень женственной, красивой), с отрешенным, каменным лицом и глазами, устремленными в одну точку. Генрих не очень сильно крутился вокруг нее — Ванин был явно не в ударе. Но она слушала очень хорошо. Это была не прежняя Эльза, это была Эльза, пережившая горе. Галя! Нет, кто бы мог подумать! Начался бал — жуткое зрелище, как всегда, еще более жуткое в его разгаре, в полутьме, в этой дискотеке, кажущейся реальной из-за необычного ракурса, из-за включенности в происходящее (совсем по-другому смотришь сбоку — чувствуя, как те же актеры подходят, становятся рядом посмотреть спектакль). Кудряшова как всегда сказала «Какая радость». Боча чуть поторопилась. Она не всегда точно знала, что делать — в 1-ом действии Кудряшова ее явно выхватила на точку вместе с собой. Эльза была на высоте — состояние полубезумия, едва не на грани обморока. В сцене обручения она стояла как не слыша, думая о своем, собираясь, потом резко, твердо — «Нет!» А после слов Грини, когда ее выдают замуж против желания — крик. Тогда ее схватил Генрих (говорят, она окликнула его) и унес к стене. Потом она лежала на Грине, он долго кружил, буквально держа ее на руках. Беззащитная, ничего уже не понимающая, в полубреду, она склоняла сама голову на плечо бургомистра, потом отшатывалась, но — почти не имела сил бежать. Гениально — «Я думала, вы просто послушны…» на крике почти, с такой горечью. И тут же — отстраняюще-испуганный жест — «Но я вас не виню». Первая пауза. Мы с Олей притихли, готовясь. И вот — он. А Эльза прямо напротив нас, он смотрит на нее, и нам хочется провалиться под землю.
Нет, это было хорошо. Почти калигульский, понимающий взгляд, но — оттенки (он смотрит на Эльзу и глаза теплеют, улыбаются (!)). Никакой расслабленности или нервности. Герой. Роль такая. Явился, как возмездие — учить быть свободными. Умный, все познавший, уставший от этого знания, но не сломленный. Тихие реплики — приказы, после которых паузы — тишина. Так здорово — он не кричит, а они замирают. Потом — жуткий, калигульский крик — «Всех учили…» Мы аж переглянулись. (Немного спустя: тишина — Оля: «Чем все это кончится?» Я: «Сейчас увидим». Сзади хихикнул Волков.) «Сволочь такая» — тихо, на шепоте и совсем в сторону, на движении.
Как он сказал Эльзе — «Нам нельзя будет уйти». «Не можем мы уйти, Галя, милая, некуда. Но мы будем играть. Работы будет… ой, как много, тяжелой, трудной, даже когда совсем худо, но что делать, ты понимаешь? Понимаешь?» А на «хуже вышивания» все-таки чуть-чуть улыбнулся. И совершенно серьезно, как задачу — «в каждом из них убить дракона». Что-то говорит садовник, Виктор берет шляпу, медлит, нахлобучивает Олежке на голову (кстати, «тебе — нет» — так серьезно прозвучало, он подумал, прежде чем сказать, и «придется повозиться» прозвучало без жалости и извинения. Работа такая предстоит). Виктор обнимает Олежку, говорит всем, что любит (не так отчаянно, как 30-го), но всерьез. И — о счастье. С такой уверенностью! Что уж если я вам говорю, уж если я этого захочу, то сделаю все, чтобы так и было, уж если я люблю… «Мы будем счастливы. Наконец». Будем!
Виктор! Витя, солнышко наше, только бы он удержался, только б так и порешил.
Бороться! Бороться!
Интересно, кстати, я опять воспринимала сначала чисто эмоцией, как почувствуется. После нервного ожидания и всего — дикий приступ радости, счастья. Аня принесла букет, а другой — Оле (попросила Коппалову подарить). И Лада. На втором где-то поклоне мы вылезли слева, я смотрю — у людей лица! Потрясенные!
Иду первой, глажу его по руке — «Машенька! Ма-ашенька!» Он, наконец, соображает, и, улыбнувшись, делает губки. За мной — Оля. У Володи — два букета, 6 розовых гвоздик! А на следующем поклоне к нему идет Лада (1-ый она — Мамонтову). В зале — аплодисменты и вой. Коппалов улыбается. Одно жаль — Галя осталась без цветов. Эх, попасть бы на «Дракона». Если буду там, ей с меня явно причитается.
Да, Коппалов вдруг появился в сценах боя (после выходов) с кошкой на руках! Гриня не удержался, выпроводил кота персонально и бросил: «Все-таки окотился!» За кулисами попадали со смеху. Кстати, сам факт — за кулисами смеялись. И никто особо не сторожил. И друг за друга не хватались. А может… мы чего не знаем, а? Виктор приехал, все же…
Ладно, увидим.
А ведь я все-таки спектакль иначе воспринимаю, чем девчонки. Вижу прежде всего — спектакль. Даже оттенки — подходит или нет, ложится ли на роль? И если да — то ура, что бы ни легло. Забавно. Т.ч. мне было весело. Буйно весело. /…/
/…/ Впервые за долгое время мне удалось посмотреть спектакль как зрителю, чего я от «Ночи» никак не ожидала. По сравнению с прогонами — гораздо лучше, Куликов значительно серьезнее, все прочие — на уровне, особенно Миша Докин, со своим «Мой пепел разбросайте над Гангом», вписанным в прожектор («3/4 от «Я еще жив», по словам Стаси). Вышибла меня из зрительского состояния Галя, таким тоном заявившая: «Все будет хорошо, Гуревич», — что я сразу припомнила «Дракона» 31.01.90. Муж с женой народу счастья пожелали. Одно пожелание стоило другого. И еще я вдруг услышала последний монолог Гуревича, так актуально прозвучало это «Господи, не мучай!» /…/
Внутри все время что-то отступает, будто освобождая. Не прошло еще месяца, а все происшедшее кажется далеким. Впрочем, я знаю себя. Опять Память. Да, моя Память стала тяжелее. Легко помнить о чем-то светлом, хорошем, труднее хранить боль утраты, разлуки с живым. Самое тяжелое — хранить верность мертвым. Мне почему-то все время хочется замолчать об этом. Замолчать о том, что и как я хочу сохранить в себе. Да, я не знала Ольги, да, я не могу сказать, что из меня она вырвала часть веры или любви. Но есть другое, почти мистическое, то, чему я верю безоговорочно, то, что пришло ко мне уже после ее ухода, то, что оставило мне ощущение боли, долга, звука мыслей.
Я не хочу отступаться от этого, пришедшего будто извне, чувства. Не хочу!
В те дни, в самые первые, я восстала против Бога. Восстала внутренне — презирая, не веря в Него, упрекая. Я упрекала Бога за наши земные беды.
Вечером 8-го, сидя около Театра и смотря на затуманенные кресты, я подумала: «Что же ты, Боженька, не даешь нам даже проститься с Ольгой?»
Наверное, целый час я мерзла на улице. Потом мимо меня прошли Сашка, его друг Славка и Миша Трыков. Они прошли в трех метрах от меня и не увидели ничего. Все трое шатались. /…/
Тогда, вечером, я очень часто представляла, нет, пыталась представить, как бы я вела себя, будь тут рядом Романыч. Но с самого начала, случайно услышав разговор по телефону Борисова о поисках Романыча, я знала, ему не будет дано проститься с Ольгой. Нет, не будет. И это казалось мне тоже справедливым, хотя теперь я думаю, что судьба хранила Романыча от всплеска, от непредвиденной боли, от встречи лицом к лицу с обвинением, со своей виной и своим бессилием. Ему было дано время на то, чтобы закрутить себя, чтобы сбросить груз Смерти и быть опять готовым к жизни. Прощального свидания не было. Из всего Театра только один человек был лишен его — Романыч. Но это открыло часть моей дороги, дороги Лариски. Если бы не этот фактик, малюсенький и, наверное, бессмысленный, многого в моей жизни, именно в моей, не случилось бы.
Ровно два месяца я не была на Ю-З…
Посмотрела «Трактирщицу». Раньше там играла Ольга.
Во время спектакля такая боль шла! Такая режущая боль… Пришлось пить валокордин. Плакала в театре второй раз…
Спектакль шел под девизом:
«Трактирщица. Трагедия в 1 действии».
Наталья рассказывала про похороны и все, что вертелось вокруг этого события… Ужас! Ужас! Ужас!
В театре черти что творится. Лариска вытворила такое, что слов не подберу! Трижды дура! Надо уметь сдерживать свои эмоции и не швыряться подобными обвинениями: «Романыч убил Ольгу!» Да типун тебе на язык! Своими воплями она подставила под удар других.
/…/ 3.02.90 мы были на «Трактире» на 14.30. Как-то не могу поверить, что в последний раз. «Трактирщица» — мой любимый спектакль. То, что мы увидели 3.02., разительно отличалось от 25.01. Наверно, все устали от постоянного напряжения, неизвестности, ожидания спасения невесть откуда. Тогда казалось, что от Вити помощи они не дождутся. На «Драконе» был такой эпизод во 2 действии: Витя стоит на лестнице, и Гриня произносит монолог насчет того, чего вы там стоите. Вдруг он делает паузу и, тяжко вздыхая, говорит: «А мы вас так ждали… Меня все спрашивают: А когда?.. А я говорю: А вот…» Тут он осекается и возвращается к Шварцу. В общем, он правильно осекся — связывать какие-то надежды с этим уплывающим привидением было, по меньшей мере, неразумно. И в «Трактире» 3.02. эта безнадежность очень чувствовалась. Хотя Саша рыдал меньше, он просто играл трагическую любовь к Мирандолине. Не слуга, а принц. А.С. не желает вообще ничего играть. Тамара отчаянно пыталась вернуть его в роль, даже сама играть начала и, наконец, вернула, но сама забыла текст и повторила 2 раза одну и ту же фразу. «Это я уже слышал», — буркнул А.С., но все же начал играть. Хуже всего в этом спектакле было то, что я прекрасно въехала в состояние А.С. В результате у меня раскалывалась голова и было так худо, что хоть вой. Было ему тяжело и очень больно. Такая безнадега, что даже колонны крушить уже не хочется. Я дошла до того, что стала угадывать мысли (один раз, правда, но с меня хватит). «Зайдите ко мне вечером…» — говорит А.С. Сереже, а в моей голове уже за 2 реплики до этой сконденсировалось: «после 12-го…» И я стала слабо стонать: «Ну, А.С., ну не надо!» — прекрасно понимая, что он все равно скажет. Что за радость сыпать самому себе соль на раны! Перед финалом он уперся в нас глазами. Я слабо ойкнула и тем самым вернула отсутствовавшую О.К. в спектакль. Взгляд был очень несчастный. А еще перед этим на нас уставился Саша, причем совершенно осмысленно, наверно, узнал. Жуткое чувство: «Ну, Саша, ну что нам для тебя сделать?» Помочь-то ничем нельзя. И финал. А.С. собрал весь серпантин, медленно проходя по сцене, даже не проходя, а перетекая, так же медленно поднялся на несколько ступеней лестницы и точно так же спрыгнул оттуда, как будто он не подчиняется закону всемирного тяготения. Дошел до края сцены, на секунду остановился и с досадой надел себе на голову всю эту охапку серпантина как хомут. «А я один в дураках»,
[61] — говорил этот жест. Так же медленно, как в рапиде, он прошел мимо них, сунув Грине серпантин, и удалился. В общем, спектакль должен был называться: «Трактирщица. Музыкальная трагедия в одном действии». /…/
/…/ Спектакль я видела всего второй раз. И в первый раз он мне не очень понравился. А сейчас показался довольно-таки тяжелым. «Миль пардон, мадам» просвистел мимо. А вот «Хозяин бани и огорода»… До сих пор не могу забыть, как Сережа разоряется про похороны, а Виктор сел, спрятался за колонну, и щека мокрая, а потом отвернулся и резко провел рукой по лицу: ну что ж, все нормально, можно играть дальше. И еще. Я сидела так, что могла всю прелесть «Штрихов к портрету», где Витя играет Князева, вернее, прелесть положения Ванина ощутить на собственной шкуре. Моя голова торчала между Ваниным и колонной. Прелестно, ничего не скажешь. /…/
/…/ После всего, связанного со спектаклем 4.01.90, у меня «Штрихи» вызывают содрогание. А ведь раньше «Штрихи» и «Трактир» были самыми любимыми спектаклями. /…/ Вышедшие с 18.00 сообщили, что на «Миль пардон» зал смеялся. «Это еще ничего не значит», — хором рявкнули мы со Стасей. Сидели мы с ней и Гоша на балкончике, а Люда на правом приставном, так что Боча наступила ей на ногу и шлепнулась. Начинается все довольно ровно. «Ваня», т.е. Проня даже похож на Проню, а не на принца Датского, потому что А.С. не сводит с Вити глаз, как будто приклеился. Правда, как только Витя оказался у него за спиной, Проня мгновенно куда-то провалился, а перед изумленными зрителями возник Витя Авилов собственной персоной в классическом вылете. «Ну и рожа у тебя, Авилов!» — прошептала рядом Гоша. Вообще играл нормально один Олежка. Боча заговаривалась и халтурила, А.С., не отрываясь, смотрел на Витю, Сережа с остервенением «играл спектакль» за них за всех. Монолог о Шукшине — по знакомой соскальзывающей схеме: от живой интонации к «мне все равно». И самое главное — «Миль пардон». Начинается нормально. И вдруг… На предпоследней точке, видимо, происходит знакомый срыв. Я этого не вижу — далеко, но догадываюсь по паузе. Причем наш великий экстрасенс срыв предчувствовал — фразы за 3 до него темп начал замедляться. После паузы так же медленно, в час по чайной ложке — к кульминации. Но нужного уровня он достичь не смог, зал хохотал до самого конца. Витя — себе, зрители — себе. Никакой связи. Первый раз в жизни я видела абсолютно запоротый «Миль пардон». «Вянет, пропадает». А.С. честно рассказывает, как пил, выходит к колонне, сообщает нормальным голосом про солнышко и вдруг повторяет: «Хороший день… будет завтра…» — как будто на завтра назначен конец света. Интонация была очень похожа на Галино «Все будет хорошо» из «Вальпургиевой» 1.02. — У вас уже затопили? — спрашивает после этого А.С. — Нет еще, — отвечает Боча. — Ну ничего, после 12 затопят, — успокаивает А.С. — После 12? — уточняет Боча. — После 12, — подтверждает он. Бедная моя голова в это время трещит так, что я жду не дождусь, когда же этот несчастный карбонарий уберется со сцены. «Хозяин бани и огорода». Витя выходит злой и мрачный, но я его не вижу — далеко. Сережа на вид нормальный, только перед каждой «кладбищенской» репликой делает монументальную паузу. А так вроде все нормально, хоть я уже вся извелась — кончатся, наконец, сегодня эти похороны? Людка потом рассказывала, что Витя отворачивался, чтобы смахнуть слезы, и лицо у него при этом было совсем не веселое. Кончился спектакль, правда, вполне прилично. После поклона Гоша начала требовать, чтобы ей объяснили, что здесь происходило. Стася буркнула, что Сережа как начал всех резать на «Ревизоре» 4.02., так и продолжает, а Витя уже и вышел злой. Правда, надо признать, что злой Витя и несчастный Витя — это практически одно и то же. 6.02.90. 18.00 — «Три цилиндра». Вообще-то я этот спектакль не люблю. Но, как ни странно, хотя это моно — А.С., он был именно спектаклем и ничем иным. Причем очень хорошим спектаклем. Как приятно чувствовать себя просто зрителем! Наконец, перед тем, как его снять, я въехала в «Три цилиндра». Получилось то же самое, что и с «Вальпургиевой». Больше мне, в общем, сказать нечего. /…/
/…/ Выехали с Олей К., за час, чуть больше до спектакля с видом, как будто билеты нам на блюдечке с голубой каемочкой поднесут. Веселые, всю дорогу смеялись, даже подумали — что это мы. Потом на юго-западной цветы посмотрели. Нашли три гвоздички (две розовые, одну белую), пушистые, с короткими ножками, но очень крепкие, свежие. Шли — у нас билеты спрашивали, такой вид. Наташа стреляла билеты, Стася в очереди взяла входной. Оля — в очередь, я — на дорогу. Только спросила — тут же билет.
4-й ряд, 18-е место! (Иногда везет.) Пожилая женщина какая-то продала. Захожу — Крошка аж ахнул
[63] — ну вы даете! (А говорят, в «Собаках» состав менять будут — бред.) /…/
Спектакль был ужасный. То есть зрителям, может быть, даже точно — и понравилось, и хорошо. Но — никакого сравнения с 31-м января. Виктор пытался работать в том же ключе, но не тянул явно. Еле сдерживался от рыданий, кривая усмешка, лицо меняется. На него было больно смотреть. Так бы и спросил: «Сколько лет тебе, Ланцелот?» Вот уж на человеке написано, что читал жалобную книгу. Лучше шли серьезные куски — монолог о книге, разговор с Эльзой, «Витькин уход» (как сказал Колобов). <Девчонок этот термин очень задел, а для меня — норма, я сама так мысленно называла — уход.> Комедийные не шли вовсе. Гриня усердно выпендривался, выполняя двоякую роль — занять зрителя и привести в чувство партнеров. Открытым текстом шло — «Ну и рожа», «Ты понимаешь, чего люди ждут» (или как-то так). В конце концов Виктора он чуть-чуть растормошил — тот хоть ушел прилично после горожан, пластика изменилась, стала легче, и сказал, что идет искать настоящих людей, тоже приличным тоном и не с таким жутким лицом.
Но по порядку. С котом было прилично еще, хотя вид у Коппалова с самого начала был не лучший, но все-таки. Появилась Галя. С таким лицом! Играла чудесно, да и на роль все накладывалось — не радоваться же ей, в самом деле. Великолепно провела разговор с Виктором. Великолепно! Низким таким голосом — «А откуда вы знаете, что у меня был жених?», без всякого кокетства, чуть даже недовольно-подозрительно. А потом, делясь (не так, как прежде — впустую, а сознавая, что говорит) — о том, что его назначили заместителем (мол — вот так-то). И на слова Виктора, что с таким расстаться не жаль — неожиданное «да». (Т.е. все понимает, все.) А потом ее монолог о том, что не страшно умирать молодой и что будет. Это было такое! Запредельный голос, глаза! Крик. Я смотрю — Коппалов рыдает, размазывая краску. Режет. Жутко. Потом Трыков появился. С палкой. Ну, это было меньше, чем в тот раз, но — взгляд, замерев, потом — сброс и это «ой!». Слушает Шарлеманя, осознает, что бесполезно — снова начинает собираться, глядя на палку. Ненадолго. Потом — бургомистр. Вышел Коппалов и говорит Вите, пока музыка: «Сейчас бургомистр придет. Он расскажет, вы все поймете, как мы тут живем». И, подняв глаза на Витю: «Может, теперь по-другому жить будем». Ну Вите-то зачем? Бургомистр вытворял, чего даже никогда не делал, чем роль свою, конечно, загубил. (И чужие куски тоже.) Ванин его утихомирить не мог — он не играл почти. Лучше всех была Галя. Все по роли, ни одной фальшивой ноты. Брезгливость к бургомистру, страх и отвращение к дракону. (Вышла на сцену прощания — лапу надо целовать. Пластика! Тормоз, наклон, смирение и боль. Шатаясь буквально. Хрупкий цветок — вот какая сейчас Эльза. Я в Галку влюбилась, честное слово.)
Пишу сбивчиво, значит — выпроваживал Гриня Витю усердно, развеселил чуть-чуть. Дальше интересного особо не было. Вручение оружия? Виктор вышел мрачноватый, признался Эльзе в любви таким тоном — тоже сердце щемило, как-то — поскорей бы проскочить, что-то жмет очень, ну тут пришли, общий шум. Витя чуть отошел, диалог с головой дракона провел отлично — вызов — нет, там была сдержанность, изучение противника и встреча с мерзостью. Упорство какое-то, вернее — готовность к борьбе с такой гадостью! Вот это ощущение — опасного гадкого зверя, с которым предстоит драться. Не победительное чувство, не свысока, нет, а вот так — надо будет, так, как это все сделать? Нет, не могу поймать. Но это неплохо — это человек перед схваткой, че-ло-век. Не сильный, но мужественный и человечный.
Сцена прощания с Эльзой. Об этом я уже писала. Страшно серьезное, искреннее начало, тоже через боль, быстро, сжавшись. «Не забывайте меня». Кусок юморной шел почти без юмора, Виктор спохватывался всерьез, с досадой какой-то — не то, не то говорю (чуть фальшиво даже шло, уж слишком искренне и серьезно начал). Монолог куда-то в седьмой ряд. И эти глаза.
Обреченность какая-то была в Викторе. Обреченность героя. Будет драться, но и худо же ему. Вот что определяло эти диалоги. Дальше меня доконал Коппалов. Мало того, чтó он заявил Виктору и что рыдал на монологе Эльзы, он тáк там ходил, а потом вообще улетел бог знает куда — стоит на коленях (дракона убили), шатаясь, почти рыдая и вопль — Ланцело-от! Встал и пошел зигзагом. Жутко, больно.
Надо сказать, что Романыч еще спектакль выстроил гениально, мерзавец. Меня разгул этот, после убийства дракона всегда режет страшно, как и сцена бала.
Монолог Виктора. Видела я его плохо, встряхивая головой, чтобы прийти в себя. Помню только, что тон умирающий, вид тоже, все — конец. Помню взгляд, когда с Эльзой прощался — тоскливо-спокойный. Отходит назад, вдруг — Вы! — резко так, жестко. «Что-то я не договорил…» Успокоился вдруг, собрался и всем — «Эй, вы!» «Жалейте друг друга» — пошло в меня. Странно, но я поверила, подумала по роли — о жалости, т.е. о том, как нам надо жить. Прониклась. И девчонки этот кусок тоже отметили. А в целом — уход. Рукой махнул, сполз по стеночке, как-то завалившись. Бр-р. Наташка в перерыве говорила — «только бы вернулся» (у нее очень сильное было чувство этого ухода — все).
Вторую часть видела уже в полутумане, ничего видеть не хотелось. Гриня дурил жутко, противно вспомнить, еще в 1-ом действии колонну выпроваживал. Во втором он съел реплику у Гали. Стал дурить, она чуть не улыбнулась, но сдержалась. Про то, что она вырвет эту запись. Она едва «нет» успела сказать, потом все-таки выбежала на точку, но это уже смазалось, да и Ванин подоспел. На балу она была великолепна — по пластике. Все в полутьме для нее, убегает, вырывается, соображая, где она. Мамонтов, кстати, выглядел неплохо, не так шатался. Потом был чудесный Галин монолог-обращение. Непередаваемые интонации, искреннее чувство, вопль, но не истерический, а крик души. Нет, теперь я уже об этой роли думаю иначе. Теперь я вижу Эльзу. «Я не виню вас!» — вдруг, с жестом, спохватываясь. Нет, я не могу передать. И такая мягкость, беззащитность!
Появление Ланцелота. Я его на ступенях не видела, и желания видеть не было — смотрела на всех, на Коппалова, который был ближе всех к Вите, страдающе-измученный. Потом Виктор спустился, подошел ближе. Он вернулся! Т.е. пришел таким, каким должен был прийти в 1-ом действии. Кончилось все неплохо, даже «счастье» было обычным. Но все вместе взятое! Впрочем, и в финале тоже — вышел Коппалов, так сказанул, что — не снимешь, жалко просто. «Скажи, Ланцелот!» У Олега были глаза! Когда Виктор шляпу натягивает. И Галя только взглянет — все. Заулыбалась было — и бесполезно. Виктор так твердо сказал: «Я люблю вас всех!» Бр-р. Но, в общем, ничего все.
Дальше кончился спектакль, поклоны. Я боялась, что цветов мало — как дарить. Но Гале досталось два букета — я вторая подошла. Глаза у Гали — удивленно-радостные сквозь слезы. «Галя, спасибо». Не знаю, мы, кажется, поняли друг друга.
/…/ 7.02.90 — опять «Дракон». На этот раз снова, как в старые добрые времена, запоротый. Почти. Витя — какой-то странный. Улыбается, но черты лица словно опущены вниз. «Да он рыдает», — шепчет рядом О.К. Галя — рыдает совершенно в открытую, точнее, она, видимо, недоревела за сценой и вот продолжает прямо на спектакле. Коппалов — туда же. А.С. — злой, взвинченный и очень несчастный. Дошло до того, что я увидела сквозь узкие темные очки его зрачки, направленные (о ужас!) прямо на нас. Это я-то, которая понятия не имеет, какого цвета у кого глаза! Но были в этом произведении не то что светлые, но очень странные моменты. Например, монолог Эльзы при выдаче замуж, т.е. не весь монолог, а одна его фраза: «Но я вас не виню…» Было там что-то очень Витино. «Не сажайте меня, бедную, на кол, хотя все равно посадите…»
[64] Последний кусочек монолога Ланцелота конца 1 действия. «Это можно — не обижать вдов и сирот…» — прозвучало не как пожелание, не как «я хочу, чтобы так было», а как «я знаю, что это так и есть». Он имеет право сказать, потому что
знает это. Очень убедительно. Но… померещилась мне там какая-то чертовщина. Идет обычный монолог, «драконовская халтура», и вдруг именно в этом месте меня охватывает острое чувство ухода. 31.01., когда это было весь спектакль, не хотелось ни протестовать, ни останавливать. Да и смысла не имело. А тут очень неожиданно, и я начала его звать (Витю, конечно, — не Ланцелота): «Постой, не уходи, куда же ты? Как бы ни было здесь скверно, но
там ведь все равно не легче… Не надо…» И никогда раньше в антракте мне так не хотелось, чтобы он вернулся. Дальше я не помню ничего интересного. Даже пожелание счастья прозвучало «на уровне», без всеобщих похорон, только один раз Витенька съязвил:
«Оч-чень счастливы…» («поднаприте-ка
на «ч»).[65] Вот и все о «Драконе». /…/
Получила письмо Юли.
Это вопль. Такая боль хлынула со страниц, что волосы дыбом! Даже слезы наворачиваются.
Мы должны держаться все вместе. Нам надо, как в сильный холод, согревать друг друга своим теплом.
Настал момент отдавать долги. Виктор и Театр слишком много дали, чтобы равнодушно пройти мимо. Настал наш черед стать «зонтиком», укрыть их всех от палящего солнца Зла. /…/
/…/ Еще новости. В «Гамлете» 23-24
[66] — Бадакова, слава богу. Мамонтов едет.
[67] В «Женитьбе». Трыкова выводят из «Ст. грехов», будет там Волков и Борисов. Учат оба спектакля на английском, хуже всех — Вите, Коппалову и Мамонтову, кажется. Ни бум-бум. Едет еще «Мольер», но на русском. Роль Оли в «Грехах» делят на трех актрис — Уромову, Кудряшову и еще кого-то. Самая хорошая новость — ответ Волкова на заявление, что будет репетиция «Гамлета» — что это не та роль, на которую вводятся с одной-двух репетиций, и что он вообще не понимает, какое он имеет к Гамлету отношение. Милый Ваня! /…/
1 часть «Лунной» по радио после очередного разговора с Леной по телефону (обычного, впрочем). Она опять накормила меня своим настроением («что будет», «кого выгонят, кого оставят» etc.). Я стараюсь об этом не думать, жить сегодняшним днем, а тут… Жуткая, беспросветная тоска. Сон О.К.: летняя улица в Симферополе, возле какого-то театра Витя, смеется, разговаривает с кем-то. А она думает: «Этого уже
никогда не будет».
Ни-когда. Даже декабря уже не будет. Все кончается. Фанаты, милые, как я люблю вас всех! Наше братство, даже если все на самом деле кончается, не пройдет бесследно. Хотя уже не будет плясок под дверью и партий в кости (уезжает Годвинская), и ожидания «Смиренного кладбища» под дверью «Звездного», и прогонов «Калигулы», и Ольгиного вопроса Люде: «А откуда ты знаешь, что я люблю бананы?»,
[68] и полета над мокрым, совсем не зимним асфальтом после декабрьского «Трактира»,
[69] и «Старых грехов» на коврике с
t° = 39°[70], и Витиной счастливой улыбки 20.12.88,
[71] ни даже «Воистину воскрес!» 30.04.89.
[72] Ничего этого не будет. Никогда. Конец?
< НАЗАД
ДАЛЬШЕ >